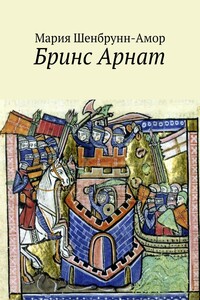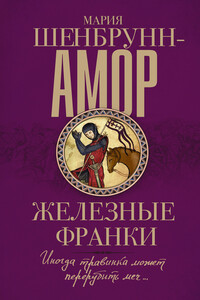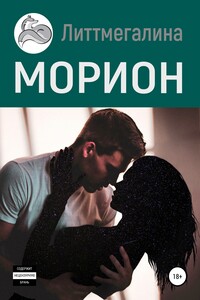Вкус Парижа | страница 57
По счастью, Додиньи больше заботился о том, чтобы оправдаться, а не уличать:
– Но я не скрываю, что я её написал. Мне хотелось испортить ему торжество. Пер-Лашез не заслужил этого триумфа. Я обвинял его публично, это знает весь город. Но подумайте сами: если бы я намеревался убить его, стал бы я посылать ему такие записки?
Стал бы? Если бы убийцы не делали ошибок, то преступления не оставляли бы следов. Может, и стал бы. Додиньи – неуравновешенный, эксцентричный невротик, но вовсе не простак. С него сталось бы послать записку с угрозой, чтобы потом утверждать, что сама угроза доказывает отсутствие серьёзного намерения. И правый лацкан смокинга сподручнее всего было оборвать противнику-левше.
Дома Елена в тёмно-синем домашнем платье сидела на диване и расшивала очередную шляпку. С граммофона манерный голос выводил: «Мадам, уже падают листья…» Она даже не привстала мне навстречу. Это после того, как ради неё я вытерпел Марго Креспен и Марселя Додиньи!
Не отрывая взгляда от иглы с бусиной, спросила:
– Где ты был?
Я небрежно ответил:
– Водил Марго Креспен в самый дорогой ресторан Парижа – «Фландрен».
Тут я получил полную меру её внимания: она отложила рукоделие.
– Ты водил эту женщину во «Фландрен»? И как эта Марго?
Я снял пиджак, расслабил узел галстука:
– Типичная современная бабочка: эгоистичная и себялюбивая до мозга костей, гедонистка во вкусах, расчётливая в действиях, алчная, пожираемая внутренним беспокойством, надменно откровенная, амбициозная и источающая слегка гнилостный соблазн.
Отчитавшись, пошёл на кухню и начал заваривать себе чай. За моей спиной послышался нервный, дрожащий голос:
– Так вот, оказывается, какие женщины тебе нравятся?
Её обвинение взбесило меня. Не поворачиваясь, помешивая сахар, бросил:
– Я не слепой и не кастрат. Мне многие молодые красивые женщины нравятся.
Воцарилась тишина, которую можно было резать ножом, только в гостиной всё тот же манерный голос тянул: «Лиловый негр вам подаёт манто…»
Я сразу раскаялся и добавил:
– Но люблю я только тебя.
Это заявление опоздало: дверь спальни с шумом захлопнулась. Граммофон наконец-то заткнулся.
На кухне нашлись остатки подсохшего багета, сыр, вяленая колбаска с лесным орехом. Я выудил из кладовки припасённую бутыль «Шатонёф-дю-Пап» и угрюмо прикончил её, провожая взглядом фары машин под окном. Умнее было бы просто промолчать об этой встрече, но нас слишком многие видели. Не хватало ещё, чтобы Елена узнала об этом свидании от третьих лиц. Но монета искренности явно не имеет хождения в отношениях. Меня охватили тоска и страшная усталость. Что-то произошло с нашей жизнью, с нашей привязанностью, с нами самими, и я не знал, как вернуть потери. Оставалось только надеяться, что, когда найдётся истинный убийца, мы сумеем обрести прежнюю нежность, уверенность и радость. Я всё ещё любил Елену – мою жену, женщину в стареньком халатике и стоптанных тапочках. Я прожил с ней семь счастливых лет перед тем, как в Париже из любящей, заботливой богини домашнего очага не вылупилась тщеславная и суетная бабочка. Эта «русская персиянка» была незнакомой, пугающей и неуправляемой. Я не хотел превратиться в «мужа русской персиянки». Но как бы ни запутались наши отношения, я знал, что сделаю всё на свете ради её спасения.