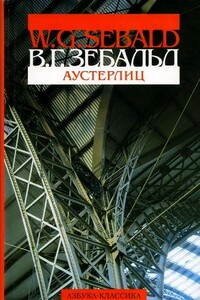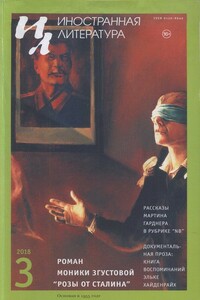Campo santo | страница 44
За этими скорее дипломатичными словами королевы, в которых еще мало-мальски уравновешиваются забота о сыне и страх перед разоблачением, следует более недвусмысленное предостережение нового регента, что строптивое горе – признак воли, непокорной небу; отсюда ясно, что в отягощенном виной политическом сообществе помнить о жертвах, погибших прежде его основания, равнозначно сомнению в законности нового порядка, который вынужден принять в расчет дереализацию прошлого и идентификацию с победителями.
Меж тем как Носсак еще пытался, по примеру Гамлета, вопреки общему консенсусу держать глубоко скептическую позицию, большинство видных авторов новой республики (например, Рихтер, Андерш и Бёлль) уже пропагировали миф о добром немце, у которого не было другого выбора, кроме как смиренно и терпеливо все сносить. Суть тем самым входящей в обиход апологетики – фикция некоторой якобы значительной разницы между пассивным сопротивлением и пассивной коллаборацией.
Одно из последствий этого состоит в том, что большинство литературных произведений пятидесятых годов (нередко они обрамлены любовной историей, где «случайно встречаются» славный немец и польская или еврейская девушка) «прорабатывает» отягощенное прошлое не столько эмоционально, сколько сентиментально и одновременно по возможности успешно избегает – как отмечают Митчерлихи (в присовокупленной к его эссе истории болезни) – знакомства с подробностями о жертвах фашистской системы>7. Если в индивидуально-психологическом случае такое поведение стремится сохранить «в ролевой схеме семьи и без того уже скудные признаки любви»>8, то в литературе речь идет о сохранении традиционных повествовательных форм, не способных передать аутентичную попытку скорби в идентификации с реальными жертвами.
Митчерлихи вполне справедливо сетуют, что нам, читателям, хотелось бы получить побольше правдивой информации о конфликтах уцелевших, но мы вынуждены довольствоваться плохо выписанными идеальными фигурами невинности, которые способны вынести жизнь среди оппортунистически изменившихся соотечественников лишь как одиночки, смиренно уединившиеся в совершенно приватном, ни к чему не обязывающем бытии, хотя мы знаем, что столь благородных героев большей частью нет вообще