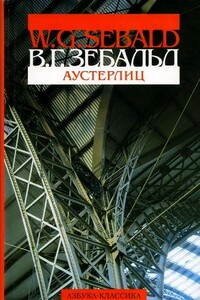Campo santo | страница 45
На тот момент Митчерлихи безусловно правильно диагностировали изъяны послевоенной немецкой литературы, однако они не учитывают, что с начала шестидесятых годов, по меньшей мере с во многих отношениях разгромной пьесы Хоххута «Наместник», целый ряд авторов принялся подсчитывать статьи на счету немецкой виновности.
Задержка, с которой это произошло, объясняется не в последнюю очередь тем, что перед неискушенными в фактических расследованиях литераторами лишь благодаря опять-таки затянувшейся юридической реконструкции хода массовых преступлений забрезжили реальные масштабы геноцида, устроенного их нацией. По мере того как юридическое расследование, кульминацией которого стал освенцимский процесс во Франкфурте, раскрывало функциональность «педантично управляемого аппарата уничтожения людей»>11, сознание авторов, важнейших для дальнейшего развития западногерманской литературы, стало политизироваться. Свидетельством тому «Дознание» Петера Вайса, для которого франкфуртский процесс явился своего рода Дамаском, а равно и прочитанные в середине шестидесятых годов «Франкфуртские лекции» Генриха Бёлля, говорящие о Германии и немцах куда больше и куда точнее, нежели его предшествующие литературные произведения.
С теперь уже типичной для него открытостью и прямотой Бёлль впервые ведет речь о затянувшемся процессе осознания и эмансипации в стране, где «слишком много убийц открыто и нагло» разгуливают на свободе и «никто не докажет, что они убийцы». И продолжает: «Вина, раскаяние, покаяние, прозрение так и не стали категориями общественными, уж тем более – политическими»>12. Правда, здесь умалчивается, что и литература долго, во вред себе, воздерживалась от возможных прозрений и что политический и социальный иммобилизм и провинциализм, которые Митчерлихи непосредственно связывают с «упорным нежеланием вспоминать»>13, имел пандан и в литературном иммобилизме и провинциализме.
Если нация в целом сосредоточивала всю свою энергию и предприимчивость «на восстановлении разрушенного, на строительстве и модернизации нашего промышленного потенциала вплоть до кухонного оборудования»>14, то литература пятидесятых годов, в своего рода параллельной реакции, куда меньше определялась волей к отысканию правды, чем определенным ресентиментом относительно происшедших в экономике чудес, – в работе Митчерлихов данная констелляция диагностируется как «политическая апатия при одновременно мощной чувственной стимуляции в сфере потребления»