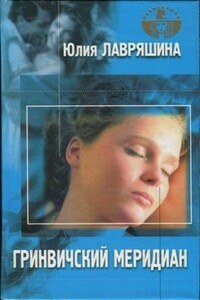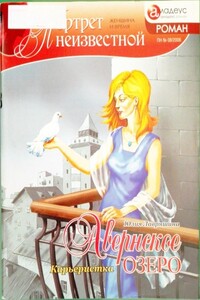Невозможная музыка | страница 104
— Без меня ничего не предпринимай, слышишь, я уже лечу.
Сам он и не заметил, в какой момент начал разговаривать с матерью, как старший. Наверное, в том самом году, когда Саша поступил в консерваторию и стал, хоть и не без помощи, но жить самостоятельно. И оба они восприняли это, как нечто естественное. А вот сейчас он уловил, что делает это как-то неправильно… Что это за слово — "предпринимать"? Разве такие слова говорят человеку, убитому горем? В мыслях у Саши мелькнуло, что это казенное слово явилось своего рода защитой, внушением: "Ты вовсе не убита горем, иначе я разговаривал бы с тобой по-другому".
Впрочем, наверняка он не знал, что сейчас творится с его матерью. Ее голос по телефону звучал так ровно, что эта ровность пугала: "Прости, что я говорю с тобой об этом… Но с кем еще? Я… прости, пожалуйста! Я застала их с Лилей… Это было отвратительно. Игорь заплакал… Ужасно! Я ни о чем не догадывалась".
В тот миг Саше почудилось: что-то забарахлило на линии, и он услышал обрывок чужого разговора. И речь шла о какой-то другой, не его Лильке… А потом заставил себя поверить.
Чужие люди, не знавшие Лильку, наверняка уже нашептали его матери: "Пригрела змею на груди!" Все это было не о Лильке. Не о той Лильке, у которой всего три месяца назад, когда он приехал на Новый год, глаза были каплями чистого счастья. А потом горя — в день Сашиного отъезда.
— Почему я не забрал ее с собой?
Он очнулся и не смог понять: произнес ли эти слова вслух или только подумал. Готовившиеся к отлету люди выглядели одной скучающей массой. Их нисколько не волновало то, что небо уже их ждет, и солнце согласно подпустить поближе. Разве такое лицо было у Икара, когда Дедал рассказывал ему о том же?
"О чем я думаю?!" — Саша сжал зубы и уставился в пол. Чтобы ярость смогла закипеть, нельзя было даже поглядывать на других людей, способных растащить ее пригоршнями раздражения. А ему хотелось ярости, ее силы, чтобы не просто встать с этого узкого пластмассового кресла, а вскочить, броситься к самолету, и этой своей новой силой заставить его взлететь раньше положенного срока — хоть на минуту. А потом гнать и гнать его навстречу солнцу, за сумасшедшей мечтой о том, чтоб растопить свои искусственные крылья вместе с той болью, что, оказывается, холодна настолько, что способна остудить любую ярость. Только поэтому он еще жив, и все внутри и не выжжено, и не оледенело до бесчувствия.
Прямого рейса из Питера до сих пор не существовало, и Саше пришлось на поезде тащиться до Москвы, чтобы целый день провести в городе, который сейчас был ему не нужен и не интересен, как и любой другой. Даже Петербург, который, как искалеченный человек, был закован реставраторами в деревянный корсет. Оказалось, что именно так готовятся к празднику, обрекая себя на временное уродство. Великий город ждал своего трехсотлетия… Строительные работы были неизбежны, и нелепо было выказывать неудовольствие тем, что невозможно пройти по Невскому, рычащему десятком дорожных машин. Просто Сашу сейчас раздражало абсолютно все: то, что закрыт Троицкий мост, на котором он впервые захлебнулся мощью Невы, и то, что не попасть в Петропавловку, и часть Зимнего в "лесах"…