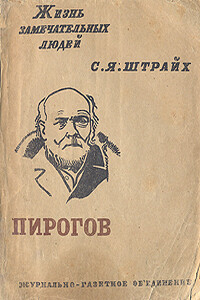Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов | страница 129
С конца восьмидесятых ситуация изменилась. Русский авангард – наравне с «Реквиемом» и «Архипелагом» – становился чуть ли не главной новостью дня. Приближалось центральное событие. В Русском музее открывалась выставка Филонова.
– После Филонова, – говорил Ковтун отцу, – все увидят, что половина «Союза русских художников»[485] – это хлам.
Так говорил человек не только навсегда влюбленный, но и выигравший. Наконец увидевший, что его старания были не зря.
Ковтун постоянно виделся с отцом и даже вошел в выставочную комиссию. Так что теперь они действовали сообща.
Красная гостиная участвовала в перестройке, делая то, чем здесь занимались прежде. Ее выставки подтверждали, что авангард – это не пара фамилий, а целый культурный пласт. Существующий как по горизонтали (в своем времени), так и по вертикали (вплоть до нынешнего дня).
В те годы многие говорили о том, что справедливость не должна быть избирательной. Значит, эти усилия приобретали смысл, выходящий за пределы изобразительного искусства.
Следовало определиться – кого надлежит показывать раньше, а кого позднее… Над этим отец думал вместе с Ковтуном. Предполагалось, что с каждой экспозицией ясности будет больше. Наконец «белые пятна» исчезнут совсем.
Этим намерениям помешал пожар в Доме писателя. Он обозначил некий рубеж. Заканчивалась эпоха советской литературы. Вместе с ней в прошлое уходили кабинеты, письменные столы и портреты лауреатов Госпремии вдоль лестничного пролета.
Самые радикальные говорили: туда ему и дорога! Уж насколько красив Белый зал, но в его порах скопилось столько ненависти! Лишь за то, что тут шельмовали Ахматову и Зощенко, он должен держать ответ!
А как же Красная гостиная? – спрашивали менее решительные. Тут происходило много такого, что советским никак не назовешь. Да и после эта линия должна была быть продолжена целой серией выставок.
«Самое трагическое, – записывает отец 25.11.93, – сгорел Дом писателя, кончилась моя эпоха, выставок не будет, негде. И появилось ощущение пенсионное… Увы! Очень печально».
С этих пор оставалось единственное пространство – чистый бумажный лист. Впрочем, отец не разделял кураторскую и литературную работу. Каждая из его последних книг открывала новое имя. Ему следовало найти картины, определить место художника, уточнить вопросы биографии. Словом, он действовал, как всякий музей, готовящий выставку, и лишь потом садился за стол.
Кстати, собственно экспозиции тоже имели место. Показать в Доме писателя Калужнина, Макарова или Кордобовского значило обратиться не только к зрителям, но и к будущим читателям: оценят ли они то, о чем он решил рассказать?