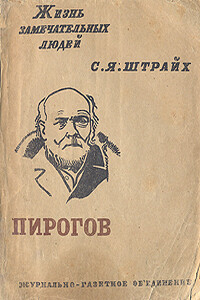Одиночество контактного человека. Дневники 1953–1998 годов | страница 128
Эпоха, как уже сказано, была «догутенбергова», и многое решало сарафанное радио. О выставках ходили разнообразные слухи. Больно удивительным казалось едва ли не полное отсутствие конъюнктуры.
Как отец называл то, чем он занимался? Да никак. Вполне хватало того, что эти хлопоты составляли важную часть его жизни. Наверное, и другие не нашли бы определения. Понятие «куратор» утвердится еще нескоро.
На самом деле это было кураторство. Причем в самом чистом (то есть бескорыстном) своем варианте. Он не просто показывал тех или иных мастеров, а «гнул свою линию», помогал, по его же формуле, «возрождению целой группы замечательных художников» (запись от 13.12.83).
Существование более или менее независимой выставочной площадки немного пошатнуло сложившуюся иерархию. По крайней мере, одно свидетельство на этот счет у меня есть.
Был такой Евсей Моисеенко. Герой Соцтруда, лауреат всех премий. Полагаю, двери кабинетов в Смольном открывал ногой. Уж ему-то никто не мог отказать в просьбе устроить выставку, но он заинтересовался Красной гостиной. Видно, потянуло сменить контекст. Оказаться рядом не с лосховскими первачами, а в совсем другой компании.
Выходит, есть и такое тщеславие – быть не среди первых, а среди последних. Ждать не рецензии «Ленинградской правды», а того, что скажут Зисман или Кондратьев. А узнав о том, что им понравилось, чуть ли не воспарить: вот ведь школы совсем разные, а понимаем друг друга!
Поначалу все шло как нельзя лучше. Договорились, что это будут рисунки. Потом отобрали работы и обсудили сроки. Решили, что правильней всего это сделать сразу после выставки Анатолия Каплана[483].
Почему эта затея не осуществилась? Не потому ли, что коллеги объяснили художнику, что в этой задачке одни неизвестные? А вдруг эти люди воспользуются соседством? Скажут, что оно дает им какие-то дополнительные права?
Как бы то ни было, но Красная гостиная осталась пространством не приласканных, а отверженных. Наверное, поэтому на отцовском горизонте появился Е. Ковтун. Слишком много было у них общего. Любовь к старикам-художникам, через все прошедшим, но себе не изменившим. Постоянная забота о том, чтобы ниточка не рвалась – и тянулась дальше.
Судьба Евгения Федоровича была столь же непростой, как у его подопечных. Он был исследователем того, чего вроде как не существовало. Понимаете, что это значит? Пишешь, к примеру, о советском графике (через многие годы он признал эту книгу ошибкой