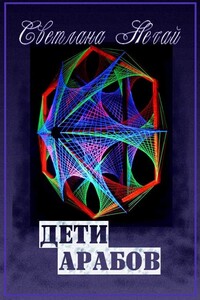Огненный палец | страница 19
Если юность игнорирует смерть, старость ее боится, то средний возраст, как правило, выступает апологетом гибели. Учитель неуклонно продолжал:
— Ты хочешь сказать, что ранняя смерть Люды абсурдна. И это нормальная человеческая позиция, признающая необходимость личной истории и соответственно слипаний и разлипаний, называемых этносами, государствами, семьями. В научном выражении мировая история — градуированная шкала эпох, где современной отводится наивысшая позиция, и оттого возникает иллюзорный эффект стабильного общего прогресса. Как всякая эпоха организует прошлое и будущее в виде собственных фантомов, так же отдельный индивид — эпицентр и творец своей вселенной. Ибо всякий — дух, объективирующий вовне собственные состояния и этой объективацией отделенный от прочих, всякий — идущая к самотождественности монада. Чего же стоит теория активного преобразования мира, когда мир — фикция? Истинно лишь то, что полезно для духа. Это едва ли относится к научно-техническому культуризму последних веков. И если сестра нашла кратчайший путь к освобождению, и он окончился, едва начавшись, — поклонитесь ей, а не плачьте.
Учитель склонен был подозревать святость лишь в нищете и убожестве и не допускал компромисса между благочестием и благополучием.
— Я хочу слушать музыку! — вскричал вдруг, как от удушья, Кочет. — О, эта музыка, где демоны крадутся к краю моря, она вся в золотом и синем сиянии, и ритм ее — это мой пульс, и хор ее — это вы, человеки по крови, над вами воют невидимые звери, лютые звери, а вы жжете лампы в хижинах, и море скребется, как пальцы с когтями. Прислушиваетесь к звону нездешних копыт, музыка над вами — как пламя, как плащ, как поле, осиянное божественным светом. Ибо вы достойны божества… Я хочу быть покровом музыки над вами. — Кочет улыбался с остекленевшими глазами, готовый к самому странному поступку, когда был окликнут сыном:
— Папа, ты меня помнишь?
Кочет обмяк и смутился:
— Конечно, малыш. Я никуда не собирался уходить. Да и куда бы я мог уйти, — затравленно огляделся.
Учитель отдернул занавески:
— Светает, — сообщил. — Пора ехать за нашими мертвецами.
Пока Кочет одевал мальчика, учитель вышел под небо, еще усыпанное звездами. Мир был закрашен синим, как детский рисунок. В домах затеплились окна, красноватый свет их струился, растекался на синем с такой взаправдашностью, что тоскливо затрепетало сердце, окруженное бедными чудесами.
Фары, как усы гигантской жужелицы, ощупывали лес. Машина ползла по разбитой дороге уже несколько часов. Артур спал на руках у Кочета. Себастьян молчал, учителю то и дело мерещились голосующие на обочине старушки. Когда, наконец, Себастьян крикнул: «Стой!», выскочил из кабины и дико захохотал, было далеко за полдень. Машина встала. Не зная, что предпринять, учитель терпеливо взирал на хохочущего Себастьяна. Наконец, тронул за плечо задремавшего Кочета. Тот открыл глаза, и сразу же они озарились огнем не то ликования, не то ужаса. Он смотрел вперед, туда же, куда Себастьян, и недоверчиво улыбался. Лицо его распустилось в совершенно младенческую гримасу неомрачимого счастья.