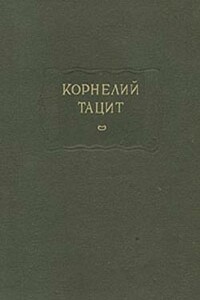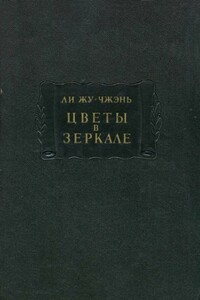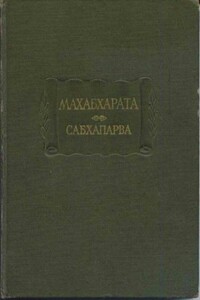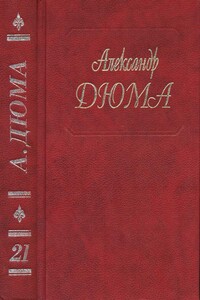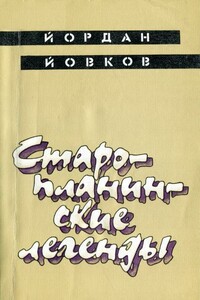Кадамбари | страница 111
Не дослушав меня до конца, он прервал меня, вытер глаза, сквозь ресницы которых текли ручьи слез, и, взяв меня за руку, сказал: „Друг, к чему столько слов? Легко тебе говорить: ты не ранен стрелами бога любви, напоенными змеиным ядом. Так просто учить другого! Но советовать можно тому, кто видит, слышит, понимает, что ему говорят, кто способен отличить добро от зла. А я лишен всего этого. Твердость, знание, мужество, здравый смысл — для меня пустые слова. Кое-как я могу еще поддержать в себе дуновение жизни, но время слушать советы далеко уже позади, позади уже пора мужества, дни учения, часы трезвых раздумий. Кто, если не ты, мог бы меня вразумить? Кто, если не ты, мог бы удержать меня от неверного шага? Чье, если не твое, слово могло бы найти во мне отзвук? Какой другой друг, кроме тебя, есть у меня в этом мире? Но что же мне делать, когда я уже не владею собой? Видишь, какая беда меня постигла. Увы, уже не время для советов. Пока еще теплится во мне жизнь, я хочу отыскать хоть какое-нибудь лекарство от лихорадки любви, иссушающей меня, как жар двенадцати солнц{257} в день гибели мира. Мое тело будто в огне, кожа сгорела, глаза опалены, сердце превратилось в пепел. Теперь, когда все тебе известно, ты волен поступать, как захочешь“.
Так сказав, он замолчал. А я, невзирая на его слова, пытался снова и снова воззвать к его разуму. Но хотя я говорил с ним дружески и заботливо, ссылался на наставления шастр, приводил примеры из священных преданий, он не слушал меня. И тогда я подумал: „Страсть так далеко завлекла его, что возвратить его к прежнему невозможно. Сейчас бессмысленны советы, нужно попытаться хотя бы спасти его от смерти“. Так решив, я пошел к озеру, сорвал прохладные цветочные стебли, набрал влажные листья лилий, отыскал лотосы кумуда, кувалая и камала, приятные сладким запахом своей пыльцы, вернулся с ними и в гуще лиан, где он сидел, приготовил для него на одном из камней ложе. А когда он покойно возлег на него, я наломал нежных веток с растущих поблизости сандаловых деревьев и их ароматным, холодным, как лед, соком смочил ему лоб и все тело. Растерев в порошок смолу, проступавшую сквозь кору камфарных деревьев, я обтер с него пот, положил ему на грудь платье из лыка, увлажненное сандаловым соком, и стал обмахивать его банановым листом, с которого стекали прозрачные струйки воды. И когда я снова и снова обкладывал его свежими листьями лотосов, снова и снова обрызгивал его сандаловым соком, снова и снова стирал с него пот, снова и снова обмахивал его листом бананового дерева, у меня в голове мелькали такие мысли: „Поистине, нет ничего невозможного для бога любви! Что может быть общего между моим другом, чистым по своей природе, довольным, подобно лани, своею жизнью в лесу, и этой дочерью царя гандхарвов Махашветой, средоточием многих соблазнов и прелестей? Да, для бога любви нет нигде в этом мире ничего трудного, непосильного, невозможного, невыполнимого, недоступного. Он легко справляется со всем тем, на чем другие терпят неудачу, и никто не может ему противостоять. Что тут говорить о существах разумных, если он способен повелевать неразумными! По его воле ночные лотосы могут воспылать любовью к солнцу, а дневные лотосы забыть о своей неприязни к луне, ночь может подружиться с днем, лунный свет пристраститься к мгле, тень обволочь светильник, молния поселиться в туче, страсть сойтись с юностью. Что для него недоступно, если такого, как Пундарику, чья мудрость глубиной поспорит с океаном, он сделал слабым, как тростинку? Как смогли ужиться в Пундарике одновременно подвижничество и страсть? Поистине, его постигла болезнь, которая неизлечима. Что же теперь делать, на что направить усилия, куда бежать, в чем спасение, где искать поддержки, кто придет на выручку, чем можно ему помочь, как найти лекарство или убежище, которые бы сохранили ему жизнь? Каким умением, каким способом, каким путем, каким советом, какой мудростью, каким утешением можно убедить его жить?“