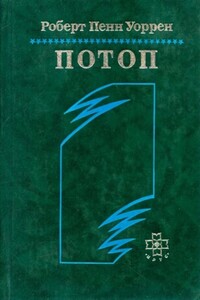Воинство ангелов | страница 65
Очень осторожно, чтобы не соскользнуть с подоконника, тело развернулось лицом в комнату, а руки накинули на шею свитую из лоскута петлю. По-прежнему очень осторожно и тихо, едва дыша, тело, все еще не соскальзывая с подоконника, наклонилось вперед, пробуя натянуть петлю на горле. Я чувствовала, как внутри громко колотится сердце, и звук этот гулко отдается в теле — свидетельство ужаса, а может, радости?
Но что бы ни хотело выразить сердце, чувство это принадлежало не мне, а лишь телу, которое теперь, когда горло все сильнее сдавливала петля, не могло вздохнуть и надувало кровью вены на шее. И это при том, что с подоконника оно все еще не соскальзывало. Я же между тем в странной отрешенности своей испытывала одну лишь жалость к бедному моему телу: бедняжка, как же больно, наверное, ему сейчас будет! Перед глазами отчетливо вставало лицо мистера Мармадьюка и слышался голос, говоривший: «Может, тебе это по вкусу придется, а если и не придется, то чего уж там — окончится и это…»
И когда тело еще балансировало на подоконнике, то, что было мной, вдруг подумало: как странно, что лицо, увиденное сейчас в последнюю минуту, принадлежало мистеру Мармадьюку, а не кому-нибудь из любимых мной людей — не мисс Айдел, не Сету Партону, не моему отцу. Но как разряд молнии внутри меня раздался крик: ты же знаешь, знаешь, что все это из-за них! Это их вина! Из-за них ты делаешь сейчас то, что делаешь!
И в приступе гнева и возмущения мое я и тело мое опять слились воедино. Я вновь обрела себя и, обретя, соскочила с подоконника.
Только очень простодушный человек мог бы вообразить, как вообразила это я, что матерый и опытный делец не обезопасит свое имущество от случайного урона, который мог нанести ему внезапный приступ уязвленной гордости или неуместный порыв отчаяния.
Надлежащие меры безопасности, разумеется, были приняты, но надсмотрщик-мулат, или кем он там числился, имел несчастье задремать на своем посту в прихожей и ворвался ко мне в комнату, лишь когда я, соскочив с подоконника, уже болталась в петле в белой ночной рубашке странным и нелепым кулем. Голые пятки мои дергались в поисках опоры, руки безнадежно тянулись к решетке, и все тело позорно сотрясалось в судорожном цеплянии за жизнь, перечеркивающем все благородство намерения, если оно у меня действительно было.
Не раз я говорила себе потом, что эти судороги и цепляния были чисто инстинктивными, что этот грубый животный рефлекс вовсе не доказывает неискренности моей попытки, но все равно я всякий раз краснею при воспоминании об этих отчаянных и спазматических движениях подвешенной кошки, об этой вылезающей из орбит и вопиющей неудаче.