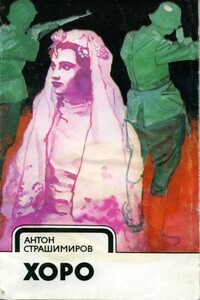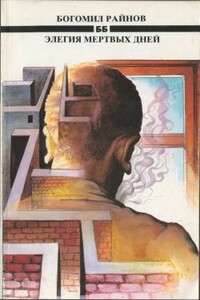Одежда — церемониальная | страница 87
Всего через несколько дней я встретил его на трибуне, высокой-превысокой, на центральной площади Пекина Тяньаньмынь; трибуна имела множество этажей и ячеек, по которым приглашенных распределили и классифицировали на основе не известных нам признаков. В одну из ячеек этой многоклеточной трибуны попали мы с Андричем.
Мне трудно вспомнить сейчас наш длинный разговор. Потому что мы стояли на трибуне и смотрели, как проходят по площади синие ряды, потом спускались в одно из внутренних помещений, где пили зеленый чай и жевали «лунные лепешки», потом снова поднимались на трибуну и снова смотрели, и так до сумерек. Затем нас ненадолго развезли по гостиницам, а оттуда в парк, смотреть китайскую иллюминацию.
Я видел, что Иво Андрич волнуется: как ему выступать, он недостаточно хорошо знает творчество Лу Синя — но я успокоил его тем, что не стоит волноваться, потому что другие знакомы с ним еще меньше. Он спрашивал о Светославе Минкове, и я рассказывал о его мучениях с жильем — хозяин, у которого Слав снимал квартиру на ул. Церковского, раз десять подавал на него в суд, чтобы отобрать у съемщика еще один угол, и наконец Славу с трудом удалось перебраться в небольшую квартирку на Вишневой улице, 16, где мы жили друг против друга. Там он и умер. Я рассказывал Андричу, что Светослав мало ездит, больше редактирует чужие рукописи и пересказывает Андерсена, пишет несколько новых рассказов. Мы говорили и о работе Андрича, но он был из тех людей, которые не любят рассказывать о себе. Все в этом человеке было соткано из тонких нитей, мягко, облагорожено, — теплый и спокойный голос, внимание, которое он умел проявить к собеседнику, деликатное любопытство, которое он всегда удерживал в рамках хорошего тона, умение выслушать и ответить только на то, что он считает нужным.
Я говорю об этом потому, что с писателем был соотечественник — полный его антипод.
Разговор с Андричем затянулся. За эти дни он тоже успел увидеть множество акварелей и фарфора, кое-что купил, боится, как бы покупки не разбились и не пострадали в пути.
Вот, пожалуй, и все.
Может быть, было и что-то другое, но я забыл.
Разговор с Андричем никогда не приносил сенсаций. По крайней мере, для меня. Он не стремился блистать парадоксами и афоризмами, — ни придуманными, ни выученными. Он предпочитал слушать, а отвечал только тогда, когда не опасался похвалить при этом себя или ранить собеседника. Он всегда был внутренне собран и прятался за блестящей оболочкой хорошего воспитания, благодаря чему от него исходило то душевное излучение, которого не заменит никакая дерзкая игра слов, претензии на светскость или щедро раздаваемые запасы памяти. Ту огромную энергию, которую другие люди из человеческой суетности разбрасывают, он берег, чтобы идти к желанной цели.