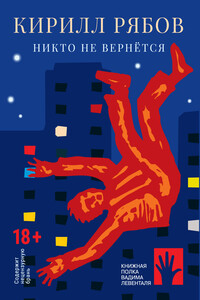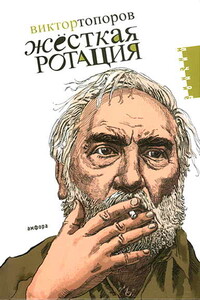Двойное дно | страница 84
Забавно, что поэзия еще способна будить такие страсти. И тоже по-своему трогательно. А по мне, изломанная (во многом добровольно изломанная) судьба Вензеля и количественная ничтожность им написанного обладают чертами истинности, в которой приходится отказать чуть ли не всем (а может быть, и всем) на нынешний суетливый лад профессиональным стихотворцам — не столько являющимся поэтами (все в прошлом, да и в прошлом — было ли?), сколько ими — поэтами — работающим.
Жизнь коротка, искусство длительно — на самом деле эту напыщенную формулу стоит перевернуть. Тени былых поэтов — Горбовский, Евтушенко, тот же Ширали — исполнены значимости, а потому и значительности. Люди успеха — в особенности сегодняшнего успеха — выглядят в лучшем случае ряжеными. Тени опустошены — и чаще всего опустошили себя сами, — а люди успеха всего лишь пусты. Почувствуйте, как говорится в рекламе, разницу.
Вспомнил еще одну «сайгонскую» драку. «Я последний поэт России», — провозгласил какой-то дегенерат. «Неправда, есть и еще хуже», — возразил я. Как же его звали?
Список друзей и знакомых, подававших надежды и не оправдавших их, Николай Беляк открывает со значительным отрывом от серебряного призера. Слишком уж яркими, слишком исключительными были те, ранние, надежды… И когда они отказались сбываться — или сбылись не в той степени, или (и это, конечно, точнее) сбылись не в той форме, это породило не только разочарования, но и смешочки. Тем более что полностью Коля реализовался разве что как отец четверых детей — и это после долгих лет неколебимой уверенности в собственной стерильности!
От поэзии он отказался прежде всего, но, пожалуй, именно эта утрата так и осталась наименее ощутимой. Превосходный, изумительный чтец, он вполне мог сделать карьеру на этом поприще — особенно в советские годы, — но демонстративно пренебрег ею. Театральный режиссер, а в последние несколько лет наконец-то и руководитель театра, он практически ничего не поставил. Три или четыре (с интервалом в десять лет и каждый раз с новым актерским составом) постановки пушкинской «Сцены из „Фауста“» да дипломный (в Щукинском училище) спектакль «Трактирщица» Гольдони на кишиневской сцене, выдержавший и вовсе полпредставления: действие у Коли разворачивалось одновременно на сцене и в фойе, поэтому спектакль надо было посмотреть как минимум дважды, а запретили его сразу же после премьеры. Концепцию «интерьерного театра» (в разработке которой я принял некоторое участие) он так и не воплотил даже в настоящем театре (театрике), подаренном ему Собчаком.