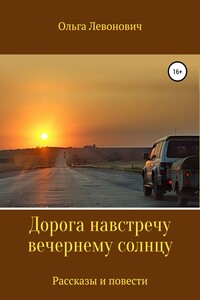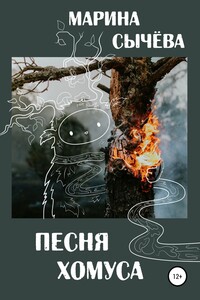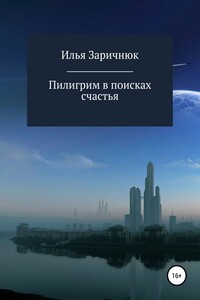Заметки на биополях | страница 81
Кажется, благодаря Межирову мы имеем редкий пример регламентированных (до какой-то степени и до какого-то момента) взаимоотношений Моцарта и Сальери в душе одного человека.
Более того, Межиров, похоже, убедил себя, что эти два начала органичны и необходимы для творчества. И Шопенгауэр с его определением артистизма, сущностного для любого искусства, очень пригодился Александру Петровичу. И все же…
Когда Межирова спрашивали – а это было при мне не один раз, – что для него главное в поэзии, он всегда отвечал: боль (а критерий – звук, мелос). Другим определяющим словом было пафосное: исповедальность. Это для Межирова синоним поэзии. Но как же тогда неплодотворная «голая правда», на которой трава не растет, вместе с Шопенгауэром?
Однажды я позвонил ему из автомата по небольшому делу. Тем не менее мы проговорили добрых полчаса, говорил, собственно, в основном Александр Петрович. Ему был нужен слушатель, которому хотя бы не чужд предмет разговора. А речь шла о любимых мной, как и многими читателями русской поэзии, стихах Тютчева «Вот бреду я вдоль большой дороги…». Телефонное эссе Межирова сводилось к тому, что великим это стихотворение делает не только сила чувства, испытываемого автором, но и упоение силой собственного чувства, также выраженное в стихах. Тогда я согласился с Александром Петровичем (почти с восторгом!). Позднее подумал: но какое же тогда это лукавство! И ведь не кто иной, как Тютчев, сказал про ложь изреченной мысли. Но, может быть, еще страшней: ложь выраженного чувства! Неужели сам факт нанесения на лист бумаги бледной проекции своего действительно испытанного сильного переживания содержит в себе неизбежную ложь? Означает какую-то очень опасную игру с самим собой?
Неужели стихи, и прежде всего «болевые», это всегда в чем-то лукавая исповедь? В межировской системе координат пожалуй что так.
Другой путь сформулировал Пушкин: «поэзия… должна быть глуповата». Быть может, это и есть наилучшая защита от лукавого, который, как известно, «всегда около монастырей бродит»: над бездной легче всего пройти, не увидев ее. А чтобы в бездну не засмотреться, необходимо или счастливое легкомыслие, позднейший пример – «Я приучил поэзию к игре» (Д. Самойлов), или жесткое самоограничение, почти тупое следование тому, во что веришь или хочешь верить: «Но верен я строительной программе… / Прижат к стене, вися на волоске, / я строю на плывущем под ногами, / на уходящем из-под ног песке» (Б. Слуцкий).