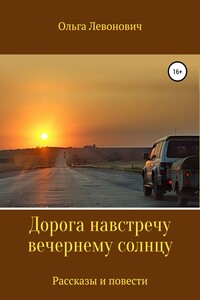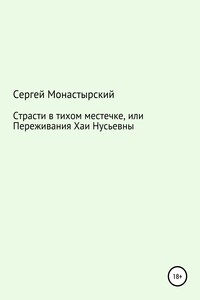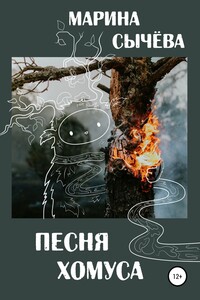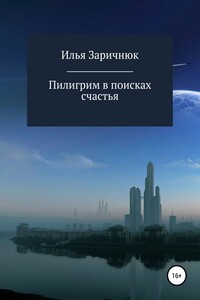Заметки на биополях | страница 80
Большой поклонник гиперболы, Межиров этими строчками как бы заклинает: «Чур меня, чур!» И все же «Коммунисты, вперед!..» – сильные стихи (их далеким эхом звучат даже такие межировские строчки: «О, какими были б мы счастливыми, / Если б нас убили на войне…»). А в настоящих стихах, как известно, ни солгать, чтобы не заметили, ни скрыть что бы то ни было невозможно.
Как будто бесспорная истина.
Но один убедительно заикающийся голос мне возражает: что-то из Шопенгауэра цитирует – о том, что артистизм предполагает лживость, поминает русскую пословицу: «На голой правде трава не растет», более того, даже вдохновенно кается:
Голос этот принадлежит Межирову.
В отличие от вдохновенного вранья, которое, как правило, сродни хвастовству – этакая ноздревщина – и, в общем, бесцельно, ложь – всегда «во спасение». Классический случай – горьковский Лука и сам Алексей Максимович, которые своей ложью «спасали» окружающих и себя, говоря современным языком, от отрицательных эмоций, – более того, таким легким и доступным способом гармонизировали мир.
Но ложь – только следствие, а причина – страх. «Я не разбивал эту чашку!» – в первый раз лжет ребенок, боящийся наказания.
Какой страх мог преследовать Межирова, в общем, нетрудно догадаться. Человек с гипертрофированным воображением и проницательным умом – при этом прошедший войну и вполне зрелый, бывший уже на виду в годы «борьбы с космополитизмом», видевший, сколь дорогой для миллионов его соотечественников оказывалась цена даже непоэтического слова…
Межирову был отпущен редкий поэтический дар. В поэзии тоже есть объективные критерии – как в музыке для исполнителя: абсолютный слух, чувство ритма… Всего этого, если иметь в виду поэтический мелос, Межирову было отпущено с избытком. Такой дар стоило беречь и защищать.
Но не переусердствовал ли здесь Александр Петрович?
Целиком отдавшись во власть мелоса, невозможно задумываться о последствиях, а куда он выведет – одному только Богу ведомо (впрочем, судьба тех, кто не испугался этого пути, как правило, трагична). Моцарт безмерен. Ограничить его, одернуть, навязать ему благочинную меру все время пытается Сальери.