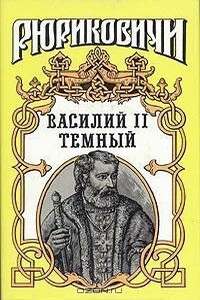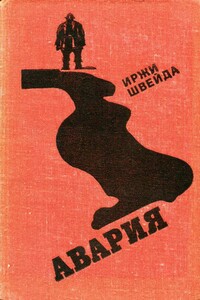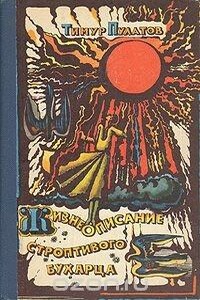Оползень | страница 37
«Н-да, артистка-а… Поглядела бы Устя, кура зажиревшая!»
Среди звяканья вилок о тарелки, выразительных возгласов и хохота Василий сидел и слушал, что говорят о его дочери.
— Голоса нет, приходится петь руками и ногами!
— Главным образом — ногами…
— Черт знает что! Это даже не неприлично. Это нечто невероятное! Гадость, и даже не пикантно.
— Игривы намеки, остроумная двусмысленность, а это так грубо, и комплекция какая-то матерщинная, трехэтажная.
Василий пари мог держать, что вот тот, который любит намеки, лысый, толстощекий и пиявистый, а тот, что картавит, вообще глиста старая, пришел сюда подразогреться. Ну, ладно, черт с ними! Сама знала, на что шла…
Василий не стал оглядываться, наоборот, откинулся на спинку стула, чтоб жардиньерка совсем скрыла его, выпил залпом пиво. Холодом свело желудок (испортил по кухмистерским да ресторанными обедами), почти сразу же обручем стиснул голову хмель. Василий теперь быстро пьянел.
…И это та девочка, которая вечерами у дома на лавочке тоненько пела с подружками: «Ночь тиха, пустыня внемлет богу…»? Это она, касаясь щеки отца тугими прохладными косицами, сидела рядом с ним в первом ряду галерки, задерживая дыхание от волнения, когда раздвигался занавес?.. От Усти пахло утюгом, новым корсетом, румянами. Как он злился, и презирал ее, и стыдился! Служившая у них поломойка перед театром затягивала Устю, упираясь ей коленкой в поясницу, и обе плакали: поломойка оттого, что «руки обламываются», Устя от страха что муж сердится. Навитые для выхода горячим гвоздем кудряшки заранее размокали на оплывающем потом и слезами красном Устином лице.
…Теперь даже эта ступа вспотевшая показалась милой и близкой, с ней бы поплакать вместе над Зоечкиной судьбой.
Влекло его, волокло его, боялся, что удушится когда-нибудь в лавке, пропахшей халвой и изюмом, а куда выволокло? Одна грязь кругом, одна мразь! Человечество только-и делает, что жрет, хлещет рюмками и бокалами и разглядывает взлягивающих девок! Где искусство, где тайна, где восторг?.. Сотрясаясь от подавленных рыданий, Василий жевал балык. И это она, любимка его!..
Весь следующий день он отлеживался в своей крысиной норе, решая, объявиться Зоечке иль уж остаться жить в тайности судьбы своей неизреченной? Надо бы, конечно, попросить ее, чтоб хоть фамилию сменила, взяла псевдоним для выступлений. И жива ли еще Устя, тоже оказалось ему небезразлично.
Придя на дежурство в «Русь», он чувствовал себя разбитым, как-то он засомневался в себе, и давний его уход из дома, столь необходимый, непреложный когда-то, теперь выглядел в его глазах почти необъяснимым, совершенным под настроение поступком.