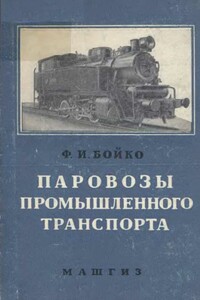Юный техник, 2015 № 12 | страница 14
Как же так вышло, что очень многие не слышали до сих пор имени этого замечательного человека, которому в нынешнем году исполнилось 80 лет?
…Когда рождается человек, никто не может сказать заранее, кем и каким он будет. Вот и родители мальчика, названного ими Арсением, не могли даже предположить, что когда-нибудь их сын сделает изобретение, которое теперь иногда называют «визитной карточкой века». Родился же Арсений Горохов 5 октября 1935 года в селе Ново-Уральское Павлоградского района Омской области. Когда началась война, ему еще не было и шести лет. Отец его и еще троих детей — Анатолий Михайлович — работал агрономом и на фронт не попал по состоянию здоровья.
Мать же, по воспоминаниям Горохова-младшего, была хорошей вышивальщицей. «Это было ее хобби, как теперь модно говорить. Сколько себя помню, всегда ходил в вышитой рубашке: листочки, стебельки… Нас было четыре брата да еще отец, и всем она шила. Я любил смотреть, как она работает. Потом мама освоила метод вышивания крестиком, pi я вслед за ней. Мне это было интересно: пяльцы, сетка, и в сетке — будто координаты для крестиков. Вышивание крестом — оно ведь как математическая наука. Поэтому, когда пошел учиться в железнодорожный техникум, у меня всегда по геометрии было пять»…
Но до техникума надо было еще дожить. В конце войны, в 1944 году, отца командировали на освобожденную Украину восстанавливать разрушенное фашистами хозяйство. Вслед за ним поехала и Мария Михайловна, оставив детей с родственницей и договорившись с ней, что она их позже привезет. Родителям надо было прежде хоть как-то устроиться на новом месте.
К лету, получив письмо от матери, дети в сопровождении тети отправились в путь. Приехали, обжились, пошли учиться. В школе Арсений любил математику, рисование, пение, по этим предметам получал пятерки. Немного хуже было с русским языком. Лишь потом, уже после войны, когда он учился в техникуме, преподаватель русского языка и литературы сумела привить Арсению любовь к поэзии.
В школьной столовой детям давали на обед жидкий суп из пшена. Летом полуголодных учеников отправляли в поля на прополку, осенью — на сбор колосков, и ни одного зернышка нельзя было утаить, спрятав в карман или за пазуху. А взрослые рисковали тюрьмой, но понемногу утаивали зерно, предназначенное для посева, чтобы прокормить свои семьи. В итоге на многих полях засеивали участки поля у дороги, а дальше сеять уже было нечем.
Арсений с отцом ездил на поля — проверять всходы. Пройдя по засеянному полю дальше к лесу, Анатолий Михайлович видел, что там никаких всходов пшеницы нет. Становилось ясно, что поля засеяны только с краю. Потом отец, обычно спокойный, резко выступал на колхозных собраниях, задавал вопросы: «Кто так пашет и сеет? Куда девалось зерно? Почему нет горючего?..»