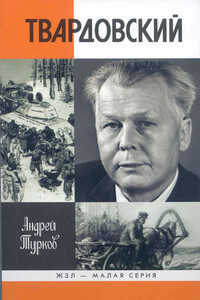Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 77
«В самые трудные годы жизни в Смоленске, — пишет его дочь В.А. Твардовская в послесловии к книге, — А.Т. обрел в Москве — в лице Тарасенкова — ту опору, которая помогла выстоять в неравной борьбе». Она прибавляет, что «сам А.К. ... никогда не упоминал об этой своей роли». Между тем письма Твардовских дают ясное представление о том, как он хлопотал о смоленском знакомце, как радел о нем, защищал (жена критика запомнила, как он схватился с Лилей Брик, назвавшей «Страну Муравию» «кулацкой поэмой») и буквально «агитировал» за него как в собственных статьях, так и организуя в его поддержку коллективные письма известных литераторов.
Не будет слишком смелым предположение, что несколькими весьма благожелательными отзывами Пастернака о ранних поэмах Твардовского мы опять-таки в немалой степени обязаны Тарасенкову, который тогда часто общался с Борисом Леонидовичем и, бесспорно, не преминул познакомить его со стихами своего «подшефного».
В самые мрачные времена Анатолий Кузьмич собирал, хранил и даже исподволь готовил к изданию стихи «белоэмигрантки» Цветаевой, а в последний тягостный год ее жизни дружил с ней, бесприютной, и ее сыном.
Когда в стране чуть «потеплело», Тарасенков с радостью принялся составлять сборник другого эмигранта — Бунина и писать предисловие к этой книге.
Так случилось, что едва ли не последние слова, написанные его рукою, это горькие строки бунинского стихотворения «Петух на церковном кресте»:
Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века
Вот как река, как облака.
Поет о том, что все обман
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг.
Какой уж там «внуков круг»! Этому «литературному старику», как А.К. не без некоторого кокетства аттестовал себя в дарственной надписи на своей последней книге, всего неполных сорок семь лет. Но позади была война, трагический поход с Балтийским флотом из Таллинна в Ленинград, долгие часы, проведенные в воде, пока не подобрали на другой корабль (тонущих было так много, что, как вспоминал Анатолий Кузьмич, «море кричало»), голод в блокаду (одна знакомая потом говорила, что только из его рассказов поняла весь ужас происходящего), тяжелейший послевоенный туберкулез, служебные неприятности...
Сначала главный редактор «Знамени» Всеволод Вишневский сваливал на Тарасенкова вину за все «идейные ошибки» журнала, писал ему угрожающие, «обличительные» письма: «Будешь защищать Пастернака — буду против тебя драться...», — да еще посылал их копии в ЦК! (К чести Анатолия Кузьмича: в ответном письме он категорически отверг инсинуации шефа насчет «каких-то пронемецких разговоров» поэта летом сорок первого года). Потом в издательстве «Советский писатель» ему объявили партийный выговор за издание... знаменитых книг Ильфа и Петрова. А уйти из редакции «Нового мира» потребовал — ах, простите! — рекомендовал сам Фадеев, сделав из Тарасенкова козла отпущения: «не снимать же нам Твардовского!».