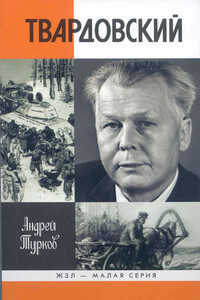Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 78
Знаток поэзии, заражавший своей любовью к ней каждого собеседника, Анатолий Кузьмич лишь однажды был приглашен прочесть спецкурс о русской поэзии XX века в Литературный институт. Но тут грянуло постановление ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград», и, видимо, продолжать курс стало невозможно. Мало того, что была предана посрамлению Ахматова, но даже, когда в очередную блоковскую годовщину, в том же августе 1946 года, Павел Антокольский в своей статье назвал великого поэта совестью русской поэзии, это вызвало «высочайшее» неудовольствие.
Вдова Тарасенкова М.О. Белкина рассказывала, что в последние годы жизни он тоскливо жаловался ей, что некому передать все, что знает, помнит, любит. Характерно: узнав, что я не читал бунинский «Солнечный удар», он тут же усадил меня читать этот рассказ, а сам сел неподалеку, подобно хозяйке, потчующей гостя вкусным блюдом и, кажется, наслаждающейся даже больше него самого.
Подлинным подвигом Тарасенкова стал библиографический труд «Русские поэты XX века. 1900-1955», завершенный и изданный стараниями его вдовы и сына Дмитрия. И вот новый поворот выше затронутой горестной темы: когда недавно вышло новое, дополненное издание этой книги, на ее презентации куда больше говорилось о заслугах (конечно, бесспорных) существенно дополнившего ее и устранившего ряд прежних ошибок и неточностей Льва Михайловича Турчинского, нежели о давно покойном Анатолии Кузьмиче!
Если Тарасенков в «Истории русской литературной критики» хотя был упомянут, то иным и вовсе не повезло.
Начну издалека: Литературный институт, первые послевоенные годы, семинар Слонимского, где недавний офицер читает реферат об Островском. И когда речь заходит о том, как Кнуров и Вожеватов бросают жребий, кому из них «достанется» бесприданница Лариса, звучит навсегда запомнившаяся фраза: «Дрожащими руками разыгрывает Островский судьбу своей героини...».
Может быть, тогда я в первый раз ясно ощутил то трепетное отношение Владимира Огнева к жизни и искусству, которое вскоре привело его в критику и определило весь дальнейший путь моего однокурсника.
Его критический «дебют» в самом начале 50-х годов был заметным и ярким. Тогда не было недохватки в критиках, которые относятся к литературе с какой-то регистраторской холодностью и почти бюрократическим величием. Так и кажется, что, как важно заявил в начале своей карьеры один из таких авторов, они смотрят на нее «с высоты, данной им аспирантурой», а позже — учеными степенями, и разве что не спрашивают оказавшуюся перед их очами книгу: «Вы — ко мне?»