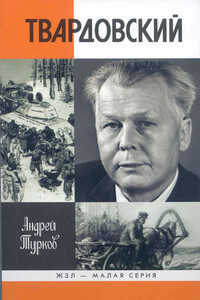Что было на веку... Странички воспоминаний | страница 76
ПРОШЕДШИЕ РЯДОМ. 1
Нет-нет, да и вспомнятся последние предвоенные июньские недели, вечерние воскресные электрички, переполненные возвращающимися в Москву с дач оживленными мужчинами и уже слегка загоревшими и, признаться, соблазнительными женщинами с букетами. И больно теперь думать, скольких из них вскоре не станет, у скольких будут безнадежно переломаны судьбы, сколькие вообще канули в неизвестность, и самая память о них с годами стерлась!
Нечто подобное испытываешь, вспоминая литературную жизнь первых послевоенных десятилетий. Все чаще убеждаешься, что многие жившие и работавшие тогда писатели если не напрочь забыты, то поминаются мимоходом, небрежно, «свысока»: что, дескать, с этих «совков» (ненавистное мне слово) взять!
И помня реальные живые лица, беспримерно трудные условия, в которых люди оказывались в конце сороковых — начале пятидесятых годов, все испытанные ими злоключения, никак не хочется мириться с этим торопливым забвением и «скидыванием со счетов».
Пусть даже, как с грустным юмором писал о себе-мемуаристе Николай Павлович Анциферов, о котором речь впереди, и я покажусь кому-то «похожим на Пиковую Даму, сидящую в ночной час в глубоком кресле и бормочущую себе под нос имена, некогда ласкавшие ее слух».
Собственно, я уже затрагивал эту тему, говоря о Суркове. Продолжу.
В недавно вышедшей в Саратове «Истории русской литературной критики» А.К. Тарасенков упомянут лишь вскользь, хотя и в числе тех, чьи выступления в печати в 30—40-х годах «наиболее заметны», — но, к сожалению, рядом, через запятую, с таким специфическим деятелем той эпохи, как Николай Лесючевский, сыгравший своими доносительскими отзывами самую роковую роль в судьбе ряда писателей.
Между тем уравнивать их просто невозможно, глубоко оскорбительно для памяти бедного Анатолия Кузьмича, хотя и был он отнюдь не безгрешен и, по горестно сочувственным словам Пастернака, «сдал мое в чем под натиском времени».
Да, дрогнул и стал в зловещие 30-40-е годы «каяться» в своей любви к стихам последнего, отказываться и от других своих прежних оценок, что язвительно показал в одном выступлении Сельвинский, сопоставив между собой некоторые его статьи разных лет.
Но тот же Тарасенков буквально кидался на защиту молодого Твардовского, объявленного в Смоленске классовым врагом. В 2006 году в смоленском издательстве «Маджента» вышла книжечка «Несгоревшие письма. А.Т. Твардовский и М.И. Твардовская пишут А.К. Тарасенкову в 1930-1935 гг.». В них, чуть не обреченных огню при поспешной эвакуации из Москвы осенью 1941 года, чудом уцелевших, но надолго пропавших, запечатлелся один из самых трагических периодов жизни поэта, когда он ходил в «кулацких подголосках».