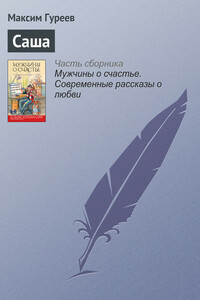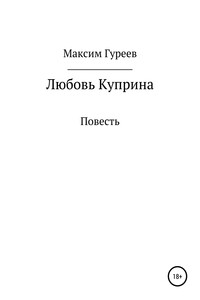Иосиф Бродский. Жить между двумя островами | страница 129
Весьма комично артикулируя, рот произносит:
Я ночью бродил под холодным дождем,
С досадою глядя на собственный дом,
Где свет, не погашенный в верхнем окне,
Никак не давал успокоиться мне.
Ведь свет этот значил, что там меня ждут
И он не потухнет, покуда я тут.
А я не вернусь, пока лампа горит.
Ну что ж, поглядим, кто кого победит,
Посмотрим, идти на попятный кому…
Весь мир погрузился в кромешную тьму,
И ветер был тяжек, как пласт земляной,
И дождь холоднее крупы ледяной…
Хождение на попятную в кромешной темноте – образ, безусловно, глубоко метафорический. Если это и произойдет (нарушение внутренних границ), то никто конформизма не заметит, и непроглядная тьма будет тому порукой.
На эту тему в своем эссе «Зачем российские поэты?..» Бродский рассуждает следующим образом: «Поэзия есть искусство границ, и никто не знает этого лучше, чем русский поэт. Метр, рифма, фольклорная традиция и классическое наследие, сама просодия – решительно злоумышляют против чьей-либо “потребности в песне”. Существуют лишь два выхода из этой ситуации: либо предпринять попытку прорваться сквозь барьеры, либо возлюбить их. Второе – выбор более смиренный и, вероятно, неизбежный…»
Любовь по принуждению возможна лишь в двух случаях, если художник готов на нее в принципе (по складу своего характера, темперамента), и если она при этом сулит выгоду, которая впоследствии покроет все страдания и унижения, ей причиненные. Просто надо уметь отступать, но не утрачивать знания тех границ, до которых это можно делать. Впрочем, у каждого, что и понятно, данное знание индивидуально, и границы могут съезжать вплоть до столичных предместий, но говорить о предательстве при этом никто не будет. Скорее, о мудрости и дальновидности, об умении в любом случае получать удовольствие…
И наоборот, излишняя принципиальность принимается за ограниченность и тупость, следуя которым, рискуешь оказаться в тупике.
Таким образом, верность слову не всегда оказывается верностью себе, потому что в данном случае изначально превалирует несвобода – власть языка и власть над языком (о чем рассуждает Уистен Оден), а наличие власти уже предполагает несвободу одной из сторон.
Эго, как известно, требует жертв, и отнюдь не мистических, но вполне осязаемых, реальных. Трагедия принесения оных носит абсолютно античный размах – с плачем, посыпанием главы пеплом, с членовредительством, с уходом в пустыню или в безлюдную горную местность, наконец, с хором из «Антигоны» Софокла, что в Стасиме Первом, в Первой Строфе воспевает: