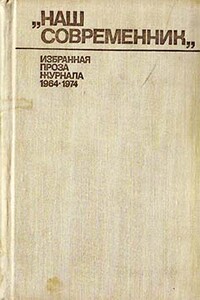Когда же мы встретимся? | страница 76
Серая затасканная бабочка на шее Павла Алексеевича уже не вызывала у Антошки улыбки. Было тепло, Антошка сидел по пояс голый и курил нещадно.
— Пропал Ермолаич… — сказал Антошка.
— Зацеловал! «Мои золотые слезы» — вечная его тема. В этом что-то есть, а? Сентиментально, но ведь это судьба, а? Я вижу, вижу, как можно сделать!
— Так в чем задержка? Давайте!
— Ха-га, — засмеялся Павел Алексеевич. — Вон Дима расскажет про нашего наставника Митрофана Чугунова.
— Закуска-то у нас кончилась. Берите хлеб. За ваш Ленинград. Я не чокаюсь, — поднял Антошка свою рюмку и выпил.
— Я выпью, мне нехорошо, — сказал Павел Алексеевич, покручивая в пальцах граненый стакан. — В самодеятельности банкеты в моде; выступили — уже накрывают, тащат коньяк, водку, рыбу, разносолы… А я равнодушен. Я позволяю себе только в Ленинграде. Я там живу! — Он мечтательно молчал несколько минут. — В сорок лет я поехал поступать в институт искусств. Я живу там! Один месяц в году. Виноват, два!
Он не смотрел на Антошку, вертел стакан с коньяком.
— «Мои золотые слезы». Я тоже когда-нибудь напишу о себе. Это уже решено. Есть и эпиграф, как раз ко мне. — Он улыбнулся. — Рабле.
— Ну…
— «Они не могли, когда хотели, потому что не хотели, когда могли». А? Великолепно! Рабле, а? «…потому что не хотели, когда могли», — повторил он. — Ведь верно, а? Могли, а не хотели. Про меня! Не я, не я нашел, я Рабле не читал. Когда читать? Дима мне сказал. Я рот открыл: про меня. Лучше обо мне не скажешь.
Тут он поднял стакан и выпил.
— Вам сколько лет? — спросил он.
— Двадцать пять.
— Еще не поздно. А у меня все, у меня уже все! Молодости-то нет, а? И зрелости вроде тоже. Я несостоявшийся человек.
— Почему?
— Сейчас расскажу. Может, нехорошо жаловаться — я здоров, у меня шестеро детей, все учатся…
— Сколько? — перестал курить Антошка.
— Шестеро. Я отец-героиня.
— Да вы погубили себя!
— Все может быть. У меня ничего нет, но я не побираюсь. Кручусь. Жду, когда старшего заберут в армию. Я актер! — Он умоляюще прижал руки к сердцу. — Плохой, плохой, да, но актер.
Павел Алексеевич помолчал. Антошка вынес пепельницу с окурками, подвинул к гостю стакан и налил. Павел Алексеевич отклонился назад, отказываясь; достал платочек, медленно вытер лоб, снял очки.
— Начать с того, — вспомнил он свою больную тему, — что меня надо посадить на скамейку против Пушкинского театра в Ленинграде. Сидит человек в очках, лысеющий, и смотрит туда, где бы хотел быть хотя бы никем. И вспоминает. Я старый вундеркинд. Застывший. Многим в детстве пророчат большое будущее. Меня отдали в художественный кружок; я походил и бросил: стало неинтересно, потому что у меня получалось лучше, чем у всех. Мне купили балалайку, я без нот мигом выучил все песни. Я бро-осил! Я запоминал наизусть страницы прозы, стихи на домашних вечерах щелкал как семечки. Ответы мои взрослым были остроумны: какой мальчик! Учительница попросила нас написать что-нибудь по желанию. Я сочинил повесть «Отважный», ее читали шесть уроков подряд. Ну, некоторые писали: «Летом я гостил у бабушки в деревне, ходил в лес…» Просто. «Это плохо, — разбирает учительница. — Это хорошо. Это отлично. А вот, дети, как надо писать. Павлик, прочти». Выхожу к доске. У-у, ребята поднялись, ого как пишет: у него «сквозь приоткрытую дверь луч света падал на ржавое перо». Ого. Меня послали выпускать стенгазету, я писал стихи, выступал и возненавидел свои способности, стал портиться. Учительница сама покупала мне билеты на встречи с знаменитыми людьми — я видел Алексея Толстого, Вересаева, молодого Черкасова. Наконец еще новость: у меня прорезался голос, я пою. «О Павлик, у тебя такой голос!» У меня был драматический тенор, я потом после армии пел в ансамбле. Я полюбил театр и решил: буду артистом! Оперу обожал! Помнил все арии, сейчас уже многое забыл, я годами ничего не слушаю, так иногда поют по радио, откуда? — не знаю. Павлик, Павлик, — носились вокруг меня. Холили все. Еще в постели — уже бегут: «Павлик, это тебе. Ты вчера «наполеон» не хотел есть, тебе, может «корзиночку»? Ленинград, интеллигентная родня. Мечта моя — жить на старости там. Две тети мои несут в школу под дождем галоши: мальчик простудится. И даже теперь приеду, попрощаюсь, они на лестницу выползут, мне за сорок, а они кричат как мальчику: «Павлик, не попади под трамвай, осторожнее! шею закутывай!» Золотое детство. Кумир в семье и в школе. И что же? Я никто! Ни-икто!