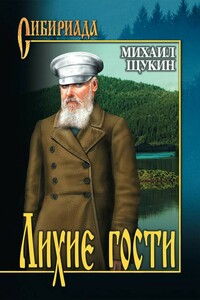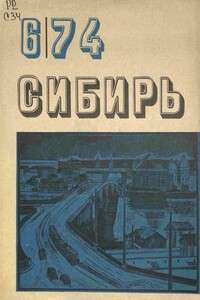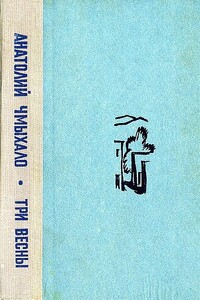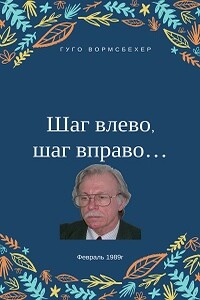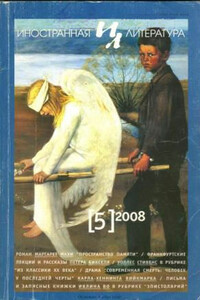Дикая кровь | страница 61
Но Маганах был правдивым человеком, он всерьез обиделся, что люди ему не верят. Да он всегда прямил, потому как не взлюбил обман еще с детства, когда однажды на празднике ему, изголодавшемуся хворому мальчонке, вместо сушеного сыра родовой князец, отец Мунгата, подал каменный голыш. Люди смеялись, а мальчонка лихоматом кричал от причиненной ему жестокой обиды. И вот теперь Маганах, вспомнив тот давний случай, сердито ударил себя кулаком в грудь и взорал на весь кабак:
— Мне Ишей коня давал! Соболей давал!
— Тише ты! Чего воешь?
— Ертаул я Ишеев!
— Не слушайте его — хмелен! Где у него соболя? — заполошно бросил в гущу толпы Харя.
— Тебе шкурка давал, водка пил…
— А где-ко бегун твой? — допытывался целовальник.
— Коня Бабуку оставил. Паси мал-мало.
Казакам понравилось глупое упорство инородца. Они от души потешались над Маганахом. Шуткою сбили с него под ноги волчий малахай, ухватили ертаула за ворот чапана, мокрый от пота. Кто-то кулаком снизу больно толкнул под ребра, и Маганах судорожно захватал ртом спертый кабацкий воздух.
Однако нашелся-таки казак, что приметил, как пастух сунул соболей Харе. Выбрался тот казак из немыслимой толчеи кабацкой — и к городничему:
— Ишеев ертаул в винах признался!
В кабак был немедленно послан городничий со стрельцами. Маганаха схватили, накрепко ему скрутили кушаком руки, поволокли в острог к самому воеводе. А Скрябин, мигом смекнувший, что дело и впрямь недоброе, изменное, повел неотложный сыск прямо на крыльце у своих хором. Ваське Еремееву, спешно вызванному из приказной избы, все велел писать слово в слово.
— Ой, хвалил меня Ишей.
— С какого же ты есть улуса?
— Мунгатов я.
— Раз он Мунгатов — кличьте ужо Якунку Торгашина, — покрывая возбужденные голоса казаков, приказал городничему воевода.
Якунко прибежал, растолкал плечом толпу:
— Пастух!
Маганах тоже сразу узнал казака, зарадовался нежданной встрече, закланялся, заулыбался, надеясь на Якункину помощь.
— Жалостливый он, добрый, киргизы его тож не щадят, — сказал воеводе Якунко.
— Ишей коня давал…
Маганаха уже не слушали. Его щедро наградили подзатыльниками и тут же рукоятками бердышей вытолкали из города. Радуясь спасению, ночевал он где-то в пахнущих туманом тальниковых кустах на Каче, а утром, когда родилась заря, так и не проспавшись с похмелья, пошел к Бабуку, взял своего рыжего Чигрена, потерся с конем нос о нос и поехал в Киргизскую степь.
К Ивашке в избу заглянул и продвинулся в дверь боком одноглазый качинец Курта, маленький, страшный, весь в рубцах, словно коровья требуха. Курта уже давно стоял юртами в степи под городом, год от года исправно вносил ясак. Лицо ему саблями порубили монголы, когда Курте было лет десять, а глаз стрелой выбили киргизы во время последнего набега на подгородные качинские улусы. Легко еще отделался — стрела была совсем на излете.