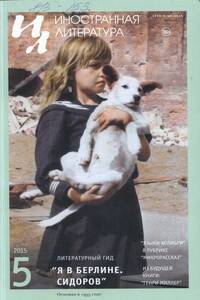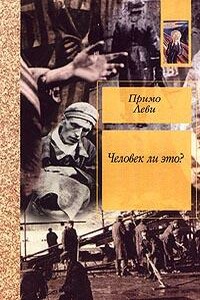море.
он умирал,
проклиная войну,
отвергая гонорар, обещанный нам всеми богами,
отвергал, чтобы умереть навеки.
(человечность-человечность…
этот прекрасный солдат
уже не воскреснет.)
а где-то в далекой стране
его святая смерть
теперь сокрыта в книге с золотой каймой…
над книгой низкий голос и
мягкая женская рука.
1952–1954
Приведем комментарий Ооки Макото и Таникавы Сюнтаро: «Погибнут солдаты или вернутся из боя живыми, зависит лишь от того, верят ли они своим богам, верят ли в их „божественный гонорар“». Речь идет о своеобразном негласном договоре между богами и людьми, согласно которому в обмен на почести богам божества обязуются защищать людей, а также обещают посмертную жизнь в раю. В стихотворении умирающий пехотинец проклинает войну и отказывается от «гонорара, обещанного богами», то есть не воздает им почести и поэтому вынужден «умереть навеки». Тем не менее, согласно Ооке Макото и Таникаве Сюнтаро, сцена мучительной смерти пехотинца «прекрасна с религиозной точки зрения», поскольку «отрекшись от бессмертия, солдат принес себя в жертву во имя „человечности“».
госпитальное судно
(то пустое, то снова тяжелое)
плывет в неизвестную родину.
«магнитная стрелка ведет нас», —
говорит капитан.
но куда?
там не Европа, там больше не Азия —
эфемерные острова.
а за толстым стеклом иллюминатора —
только маленькое круглое море.
«цвет лица того раненого…»
«желтизна» азиатов теперь —
не то приговор, не то медицинский диагноз.
желтизна пристает к лицу, как судьба, что дана…
о, моя с желтоватым лицом больная страна!
посмотри —
там, вверху только желтое солнце.
к четырем пополудни загорается море, кипит.
снова спуск…
затем не к добру растущий изгиб —
в пузырях атакующих волн еще шевелится «банзай!»,
а в постелях их все полощет каким-то вином,
но вино отдает человечиной…
больные уже обманывают богов,
подражая умершим.
так тихо, тихо…
потом размыкаются веки,
радужка застилается мутью,
отрешенный человек надевает маску смерти.
тень… идет неразлучно, всю жизнь, тянет лапы…
теперь везде этот желтый и теплый запах.
в темноте, похоже, нет нигде двери.
судорожно пытаюсь нащупать ручку.
если и прежде лилось столько крови,
то хорошо бы людям превратиться в трубы.
«там кто-то подсматривает».
в замочной скважине — глаз
и молчание, заслоненное всей шириной двери.
по груди расползается тяжесть.
горячими глазами я ищу выход,
переглядываюсь с замочной скважиной.