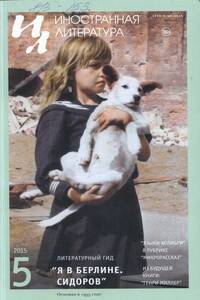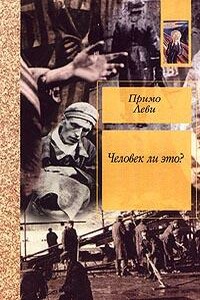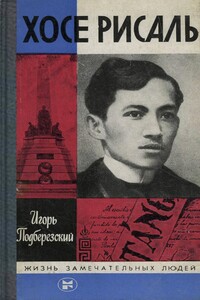«Я в Берлине. Сидоров» | страница 12
И Хелена ведет себя странно. Вернувшись час назад из деревни, он застал ее словно оцепеневшей от долгого ожидания. Потом она долго кружила по комнате, не могла найти себе места, бросала какие-то бессвязные фразы, несколько раз повторила: «Я вниз не пойду, я сегодня вообще туда не пойду», — а теперь совсем затихла. Примостилась возле комода и занялась своими тряпками, которые — бог весть каким способом — умудрилась насобирать за зиму. Кажется, это барахло ей милее, чем усадьба вместе с коровами и птицей, за которыми с завтрашнего дня придется ухаживать. «Неужели еще не поняла, что завтра все и начнется? С той минуты, когда Хаттвиги скроются за горой?» А может, у нее хватает ума не радоваться свалившемуся с неба богатству? Пять коров и сорок кур просто так ведь не свалятся, Стефан и сам понимает, и вообще у него ощущение, будто все это добро им дали во временное пользование. Усадьба большая, десять гектаров, но управиться можно, главная морока — электрический мотор, самая важная в хозяйстве вещь, больное место. Уже дважды у него на глазах эта адская машина принималась искрить, дико рычала и в конце концов начинала дымиться. В риге! Пауль Хаттвиг тогда поспешно отключал ток и долго копался в моторе, прежде чем решался снова его запустить. Но с завтрашнего дня Пауля здесь уже не будет, и потому Стефан никак не может отделаться от мыслей об этом моторе и злится на Хелену за то, что она так спокойно перебирает тряпки в комоде.
А тех, из деревни, что-то не видать. За окном безлюдная проселочная дорога, по обочинам фруктовые деревья, голые, сотрясаемые ветром. Земля еще черная, сырая. Из другого окна видно поле Хаттвигов, длинной лентой тянущееся в гору, прямо к черному лесу. Совсем еще недавно на этом поле лежал подтаявший, ноздреватый снег — озимые вылезали из-под него растрепанные, помятые.
— Они уже знают, — сказала Хелена. Она так и стояла у комода. — Я знаю, что они уже знают.
— Что знают?! — бросил Стефан с раздражением, будто ученице, не умеющей толком выразить свои мысли.
— Что старуха и Эльза тоже поедут. Люцина не зря гоняла в деревню.
— А мне плевать! Пускай знают!
Это он врал, конечно, ему вовсе не плевать было на старуху Хаттвиг. Добрые глаза, обведенные темными кругами. Голова чуть опущена, негромкий голос… Еще одно — кроме искрящего мотора — больное место. Старая женщина всегда относилась к нему с неподдельной симпатией. Возможно, у нее был свой расчет, но ведь Пауль и Эрна тоже держались подчеркнуто вежливо, даже предупредительно, однако ничем похожим на симпатию тут и не пахло. Такое улавливаешь почти безошибочно, кожей; вот про старуху Хаттвиг он уверенно мог сказать, что рядом с ней ему всегда становилось тепло. И однажды, когда было особенно тепло, она попросила его помочь им с дочкой остаться. Они будут работать, как прежде, не претендуя ни на дом, ни на землю, а там, глядишь, дочь дождется возвращения мужа, который, вроде бы, в плену у русских. И Стефан обещал, что постарается, — в самом деле, что ему стоило? Пусть поживут еще пару месяцев, до следующего этапа выселения. Хотя… связываться с немцами, да еще брать на себя какие-то обязательства? Смешно…