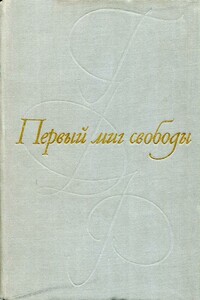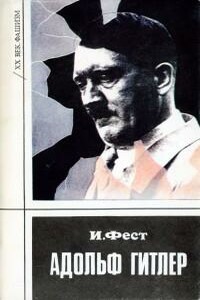Москва – Берлин: история по памяти | страница 91
Мешок наполовину сполз с головы. Я отказался от своего пустяшного звания в юнгфольке и в положенное время перешел собственно в гитлерюгенд для 14–18-летних, где наша «служба», по крайней мере, в Архайльгене, выражалась лишь в откровенном неуважении по отношению к начальству. <…>
В семнадцать лет я окончательно сорвал мешок с головы. Теперь я знал: что бы мне ни советовали, что бы ни приказывали в будущем, моя единственная серьезная задача — спасти свою голову.
Йоахим Фест
Счастливые годы
Перевод Анны Торгашиной
Наверное, память обманывает и приукрашивает. Но я вспоминаю школьные годы в Третьем рейхе без неприязни. Образы и ощущения, в которых еще существует та эпоха, не имеют ничего общего с террором, подавлением и бесправностью. Хотя все это было и этого невозможно было не замечать. Тем не менее, оглядываясь назад, на то время, которое совпало для меня с учебой в школе, я вижу скорее смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления — все это и делало то время счастливым.
Политические перипетии от нашей жизни были неотделимы, они-то и придали счастью тех лет особый оттенок — по крайней мере, в детском восприятии. Память хранит ранние воспоминания, которые долго оставались неразгаданными: например, как отец, которого я всегда глубоко уважал, однажды вечером совершенно измученный, в изорванной одежде остановился в темном проеме входной двери, не заметив меня в углу, а затем, тенью проскользнув мимо, скрылся в одной из комнат.
Это случилось весной 1932 года, когда волнения, очень похожие на гражданскую войну, перекинулись и на ранее незатронутые предместья Берлина. В следующие месяцы в доме царило оживление, кто-то постоянно приходил и уходил, появлялись чужие лица, из комнаты отца доносились громкие голоса, и, толком не понимая что к чему, я все-таки ощущал всеобщее волнение и ожесточение.
С раннего детства мы с братьями и сестрами остро чувствовали эту напряженность. Неспособный к любой форме притворства, а скорее — не желающий притворяться, мой отец и после января 1933 года не скрывал своего почти до тошноты доходящего презрения к «нацистскому сброду», как он выражался. В кругу семьи он тоже никогда не сдерживал злости, несмотря на ужас и увещевания матери. Отец осознавал опасность, но не мог вести двойную жизнь — годы спустя я услышал, как он объяснял это обеспокоенным друзьям. В своем упрямстве он обременял нас этим доверием, но в то же время это нас сближало — мы чувствовали себя заговорщиками. 28 февраля 1933 года, наутро после пожара рейхстага, он взял меня с собой из Карлсхорста в центр города, мама настояла на этом в надежде, что мое присутствие удержит его от необдуманных поступков. Мы несколько раз прокатились на городской электричке по дуге между станциями Фридрихштрассе и Бельвю туда и обратно. Мы стояли у вагонной двери, и, когда показывались тлеющие руины, отец подхватывал меня сзади под мышки, поднимал к окну и приглушенно произносил слово «война» или что-то в этом роде. Как я узнал позже, он имел в виду восстание, на котором настаивала часть руководства «Рейхсбаннера»