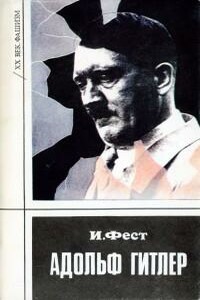Москва – Берлин: история по памяти | страница 90
Мы учились в престижном квартале города, на роскошной вилле. Паркет, ковры, массивная мебель, обитые джутом стены, канделябры на потолке — все мне было в новинку и производило впечатление. На это и был расчет — шикарная обстановка должна была показать, что мы принадлежим к элите, которой причиталось то, что недоступно большинству. Это было в июле 1936 года, мне только исполнилось тринадцать. Точно не знаю, что больше раздражало меня в преподавателях: что на все вопросы у них были заготовлены самонадеянные ответы или что все они были зазнайками. Они нисколько не сомневались: рано или поздно они придут к власти и, по праву нового поколения, изменят грубые нравы и кровавые методы заслуженных, но вполне заурядных «старых бойцов». Они уже видели, как в ближайшем будущем станут главными национал-социалистами, с незамаранными руками и безупречными манерами.
На тех сборах мы носили не обычные черные гимнастерки юнгеншафта, а гимнастерки серого цвета, и на расположенном поблизости учебном плацу нас муштровали, как новобранцев, до полного изнеможения. Потом была лекция, посвященная идеям национал-социализма, над которыми я раньше вообще не задумывался. Но теперь обучение было системным, и ему придавалось огромное значение. По ночам я не мог уснуть, потому что все это противоречило тому, что я прочел и чему до сих пор научился. Прежде мои повседневная жизнь и ежедневное чтение никак не соприкасались друг с другом. И тут впервые, когда я был уже довольно большим, литература вмешалась в будни.
Пресловутой каплей, переполнившей чашу моего терпения, стало не какое-то крупное событие, не война и не депортации, о которых ходили слухи, а нелепое сравнение двух книг. Нам прочли несколько страниц запрещенного романа «На Западном фронте без перемен», где солдаты после организованного кайзером смотра рассуждают о кайзере, войне и отечестве — трезво и скептически. Потом нам зачитали соответствующую сцену из романа Франца Шаувекера[57]: солдаты восторгаются кайзером и готовы погибнуть за отчизну. Вот это правдивое описание, сказали нам, другое дело еврей Ремарк, которого на самом деле зовут Крамер, он втоптал в грязь идеализм немецких фронтовиков. Я сразу понял: Шаувекер есть не что иное, как национальный китч (это выражение употреблялось и в гитлерюгенде); так, как в романе Шаувекера, никто не говорит, даже юные гитлеровцы, а уж солдаты — тем более, а вот Ремарк прав.
Это побудило меня как можно скорее завершить свою карьеру в юнгфольке. И сделал я это не из каких-то благородных соображений — повод был незначительным, почти забавным. Однако именно он вызвал у меня бурю эмоций. Звучит драматично, но именно так я это и ощущал: стена между литературой и жизнью рухнула. Я больше не желал ни вести за собой, ни быть ведомым. В табеле успеваемости, в котором фиксировался уровень моей подготовки, начиная с марш-броска с полной выкладкой и заканчивая «мировоззренческим обучением», после 8 августа 1936 года, когда закончились сборы, больше нет записей.