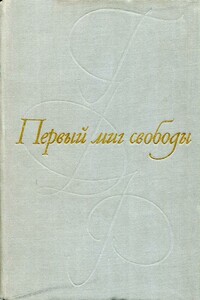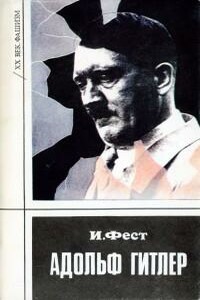Москва – Берлин: история по памяти | страница 88
В ту пору я, пятнадцатилетний, подчас задавался вопросом: может, евреи и вправду во многом виноваты? Само собой, не бедные евреи, не торговец куриным кормом и не владелец местной газеты, а богатые евреи в Нью-Йорке, плутократы. В гитлерюгенде меня убедили, что богатые стремятся еще больше разбогатеть, а капитализм — мировое зло. Об этом же я читал в запрещенных книгах Джека Лондона и Эптона Синклера, а они были моими авторитетами.
Меня хотели превратить в человека, который с чистой совестью одобряет все, что бы ни делало государство. Тот, кого воспитывали в вере в Бога как законодателя и высшего судию, испытывает угрызения совести, нарушая десять заповедей. Напротив, тот, кого приучили превыше всего ценить народ, коллектив, общество и государство, считать, что именно они определяют закон, ради всего этого пойдет и на убийство — безо всяких угрызений совести и даже с сознанием выполненного долга. Ведь совесть — вовсе не глас божий, она прививается воспитанием. Эти простые истины уже тогда мне были понятны, но мне все еще не хотелось в них верить. <…>
Тем, кто рос в те годы, национал-социализм натягивали на голову как мешок. Условия жизни даже не нужно было принимать осознанно, они прирастали к нам, мы врастали в них. Мы знали только тот мир, в котором жили, и считали его нормальным. Чтобы заметить ограниченность государственной идеологии, нужно было получить определенный жизненный опыт, встретить нужных людей, прочесть нужные книги. <…>
К тому времени я уже хотел читать только запрещенную литературу. Это превратилось в своего рода охотничью забаву — книги приходилось выслеживать, как пугливую дичь. Круг моего чтения зависел от случая. Я отыскивал добычу в коробках с хламом у торговцев антиквариатом, в земельной библиотеке Дармштадтского замка, во втором ряду книжных шкафов у знакомых. Когда в гитлерюгенде собирали литературу «для фронта», я отсортировывал для себя запрещенные книги, пока их не заметил кто-нибудь другой и не сжег. Бывало, какую-нибудь запрещенную книгу передавали из рук в руки на школьном дворе, например, роман Эрнста Глезера «Год рождения 1902», где нас больше интересовали эротические сцены, чем политика.
Когда новый торговец книгами переехал из Берлина в Дармштадт, я вошел в его магазинчик, принадлежавший ранее еврею Альфреду Боденгеймеру, и с надеждой в голосе спросил: «Хайль Гитлер, остались ли у вас еще запрещенные книги?». Торговца книгами и антиквариатом Роберта д’Хуга, ставшего после войны уважаемым искусствоведом и моим другом, гитлеровское приветствие не насторожило: он знал, что в моем возрасте эту фразу произносят, не задумываясь. Он молча достал из-под прилавка то, что я искал. Наибольшее влияние на меня оказала книга, которую он продал мне за три рейхсмарки, — «История мировой литературы» Пауля Биглера, и сегодня не утратившая своей увлекательности. Она помогла мне навести некоторый порядок в голове и проложила маршрут от книги к книге, от автора к автору.