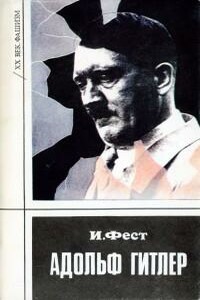Москва – Берлин: история по памяти | страница 86
В период противостояния между гитлерюгендом и евангелической молодежью нас выучили прекрасной протестной песне на слова Новалиса, которой еще Макс фон Шенкендорф[48] придал политическое звучание во время войны с Наполеоном (позднее ее взяли на вооружение СС, а после войны — викинг-югенд[49]): «Пусть верность всех покинет, останусь верным я»[50]. Верность, однако, покинула церковь, и пасторские мальчишки — «dem Parre seu Buwe», как говорили в Архайльгене, — превратились в «dem Hitler seu Buwe» — мальчишек Гитлера.
Не все евангелические пасторы принимали в этом участие. Так, например, существовала Исповедующая церковь[51], к которой в Архайльгене принадлежал пастор Карл Грейн по прозвищу Черный Карл. Когда в 1935 году его новые евангельские братья, так называемые «немецкие христиане»[52], заколотили двери церкви и общинного дома, для чего им понадобился кузнец из Дармштадта, члены Исповедующей церкви попросили кузнеца Эрнста-Фридриха Гёбеля из Архайльгена вытащить гвозди. Кузнецу пришла в голову мысль выковать из этих гвоздей крест. Пастор Грейн повесил этот крест в ризнице. На нем была надпись: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу»[53]. Год спустя бывших членов Союза евангелической молодежи было уже не отличить от «пимпфов» — рядовых юнгфольковцев: стычки между нами остались в прошлом, и форму мы теперь носили ту же, что и они. Мы примирились даже с ножами, какие были приняты в гитлерюгенде, — они были скорее декоративными и ни на что не годились, в отличие от ножей в «Бюндише югенд»[54].
19 мая 1935 года мы, юные гитлеровцы, нехотя плелись по проселочной дороге, а затем через лес к новой эстакаде, чтобы кричать «Зиг Хайль!», когда фюрер во время торжественного открытия будет объезжать первый законченный участок автобана между Франкфуртом и Дармштадтом. Как ни странно, воодушевления эта перспектива ни у кого не вызвала: ладно б еще занятия в школе отменили, но дело было в воскресенье, а в выходной у всех имелись свои планы. Многие сбежали еще в лесу, так что под конец осталась лишь горстка хмурых после долгой дороги подростков. Мы встали на мосту, но так и не успели ничего крикнуть, а фюрер уже проехал под мостом. Единственное, что мне запомнилось, — это козырек его фуражки, под ней усы и небрежно поднятая вверх, согнутая в локте правая рука. Тогда я видел его в первый и последний раз.
Отсутствие воодушевления я сейчас объясняю себе тем, что мы считали мир, так резко изменившийся для наших родителей, нормальным: все было так, как было, речи Гитлера, которые нам приходилось слушать на общих собраниях в спортзале, сидя на неудобных табуретках, наводили на нас ужасную скуку. Скука не вызывала протеста, мы принимали ее как досадную, но неизбежную составляющую жизни, и это казалось нам абсолютно естественным. А для некоторых эта скука была все же лучше, чем нудные уроки. Директор школы Монье всегда приходил уже после того, как начиналась речь, и уходил до заключительного пения национальных гимнов. Он с каменным лицом стоял у стены, всем своим видом демонстрируя безмолвное неприятие. Но кого или что он отвергал? И как должны были реагировать на это школьники? Просто размышлять? И к какому выводу им следовало прийти?