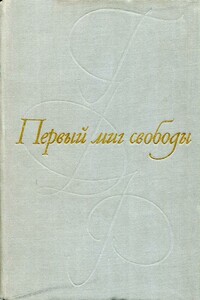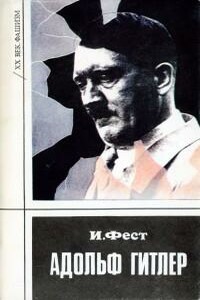Москва – Берлин: история по памяти | страница 83
Один из них уже довольно давно рассказывал мне, что как-то во время войны, году в 1940-м, неподалеку от Штеттинского вокзала в Берлине, он увидел толпу евреев, которых конвоировали полицейские, и среди них заметил нашего старого друга Т. Он производил самое жалкое впечатление. И вот что сказал мне мой одноклассник: «Я подумал: Т. будет неприятно, если он узнает, что я вижу его в таком положении. Поэтому я быстро отвернулся». Отворачивались миллионы.
Какими бы ни были мои школьные годы, я никогда столько не читал, как тогда. Раздобыть запрещенную литературу было несложно. На книжных полках у моих родственников стояли романы и повести Томаса и Генриха Маннов, Арнольда и Стефана Цвейгов, Шнитцлера, Верфеля и Фейхтвангера. У моего зятя, помимо Тухольского и Киша, я обнаружил подборку номеров «Вельтбюне»[42] за десять лет.
Немало книг мне досталось и от знакомых, которые уехали из страны. На сборы зачастую оставалось крайне мало времени, а объем багажа был сильно ограничен, поэтому, как правило, люди брали с собой словари, а вовсе не романы или стихи. Как-то, когда я рассыпался в благодарностях перед одним своим знакомым, у которого была прекрасная библиотека (мне казалось, что эти книги для меня — подарок невиданной щедрости), он многозначительно мне сказал: «Я не дарю вам эти книги. Они даны вам в долг — как и эти годы. Потому что и вы тоже будете изгнаны отсюда, и тогда книги вам придется передать другим».
Он не ошибся: когда в конце октября 1938 года меня депортировали, я взял с собой одну-единственную книгу, роман Бальзака, которую в тот момент читал. Спустя несколько дней по всему рейху прокатились организованные властями погромы, которые затем, придав им видимость чего-то безобидного, назвали Хрустальной ночью. С этого момента начался новый, неслыханный по своей жестокости период преследования евреев.
О том, что писали эмигранты, пока я жил в Берлине, мы не знали практически ничего. Могу припомнить всего два исключения. В начале 1936 года мы все собрались на квартире одного нашего друга-еврея в Груневальде. Кто-то из нас стал вслух читать прощальное письмо Тухольского, адресованное Арнольду Цвейгу и написанное за несколько дней до самоубийства. Письмо было изуродовано цензурой, снабжено издевательским предисловием и опубликовано в «Дас шварце кор»[43]. Мы были потрясены.
Еще один похожий вечер мне не забыть никогда. На этот раз читали машинописную копию, которую удалось достать нелегальным путем. Это опять было прощальное письмо, хотя и совсем другого рода — в этом письме, адресованном декану философского факультета Боннского университета, Томас Манн рассказал миру о своем отношении к Третьему рейху. Мы были счастливы. Позднее, в годы войны, в многочисленных ночных разговорах с друзьями и родственниками, которые всегда касались Германии, я то и дело цитировал это письмо: «Они (то есть национал-социалисты) проявили неслыханную дерзость, спутав себя с Германией! Но, возможно, не далек тот час, когда немецкий народ будет готов все отдать за то, чтобы его не путали с ними».