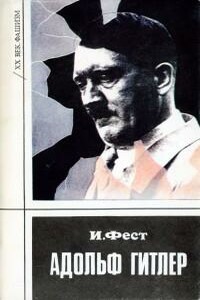Москва – Берлин: история по памяти | страница 63
В память мне запало, как одним солнечным днем мы прогуливались вместе с Кашеном. После того как в Москве мы окунулись в атмосферу недоверия и осторожничанья, которая, как мы позже заметили, царила и в Рублеве, нас ошеломило, как бурно темпераментный француз принялся изливать душу. Его жена, американка, недавно порезала палец и попала в московскую больницу из-за заражения крови. В больнице ей первым делом сбрили волосы. Ее отчаянные протесты не возымели никакого действия.
— Только вообразите себе! Женщина с бритой головой! Это ли не верх варварства?
Кашен был вне себя. К личной обиде примешивалось оскорбленное эстетическое чувство, врожденное у каждого француза, особенно в отношении женщины. Его рассказ навел меня на мысль, которая уже приходила мне в голову за минувшие недели в Москве. Те, кто отваживался на какую-либо критику, по большей части цеплялись за личный опыт, поводом становились случаи, которые сами по себе, быть может, и не имели такого уж большого значения — ведь в конце концов волосы мадам довольно скоро отрастут, как мы утешали Кашена, хоть и сочувствовали ему всем сердцем. Но Кашен не мог не испытывать смутной тревоги: бритая голова жены стала для него символом того беспокойства и разочарования, которые он ощущал, будучи правоверным коммунистом. В глубине души Кашен был недоволен нынешним положением дел в Советской России и вымещал свой гнев на врачах, обезобразивших его супругу.
<…>
Поначалу нам казалось, что в Рублево мы можем вздохнуть полной грудью. Воздух здесь был во всех отношениях лучше, и в нем витало, пожалуй, даже веселье. По-летнему одетые функционеры прогуливались среди ухоженных деревянных домиков или беседовали, сидя на скамейках на солнышке, На спортивной площадке резвилась молодежь. Но длилось это ощущение недолго: вскоре мы поняли, что веселье — лишь видимость. Я содрогнулась, когда заметила, что в волейбол, который при Советах стал народной игрой, помимо молодежи играл шестидесятилетний Вильгельм Пик[35] в шортах и майке. Каждое движение он делал напоказ, словно бросал окружающим вызов: «Смотрите, какой я молодой да удалой, счастливый да беззаботный! Разве жизнь в Советском Союзе — это не самое прекрасное, что только можно себе представить? Или нет?» И я вдруг осознала то, что на самом деле уже смутно понимала. К этому сводилась вся показушная радость верных линии функционеров. Они изображали беспечную веселость, и горе тому, кто посмеет задумываться, вешать нос, тревожиться о настоящем и будущем! Его тут же заклеймят как жалобщика. Оптимизм стал обязателен. «Жить стало лучше, жить стало веселей» — под таким сталинским девизом прошла самая кровавая эпоха в истории Советского Союза, и Вильгельм Пик скакал по спортивной площадке, силясь изобразить веселье, созвучное этому циничному лозунгу. Там и сям можно было наблюдать смехотворную идиллию. Например, троица, состоявшая из руководителя чешской компартии Клемента Готвальда, являвшего собой апофеоз мещанина, его падкой на роскошь жены, затянутой в корсет и явно страдавшей в нем из-за летней жары, и жеманной барышни, их юной дочки. У Готвальдов было два спутника: элегантный, хорошо выглядевший Рудольф Сланский