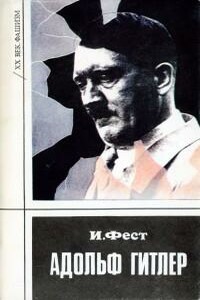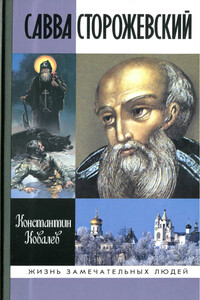Москва – Берлин: история по памяти | страница 64
<…>
Однажды утром мы прогуливались по парку, когда я издали приметила сидящего на лавочке Мануильского, а рядом с ним — маленького пожилого товарища с седой бородкой клинышком, которого не знала. Незнакомец говорил о величии Коминтерна таким подобострастным тоном, что мне показалось, будто я перенеслась в мир Гоголя и Достоевского. При этом его бородка уже покоилась на жилетке Мануильского. Это зрелище так меня впечатлило, что я обратила на него внимание Хайнца.
— Ничего себе! — воскликнул он. — Да это же X., тот самый, который разговаривал с Молотовым по телефону! Помнишь эту историю?..
Еще бы не помнить! Это была одна из любимейших баек Ломинадзе. Но я всегда думала, что Бесо ее выдумал от начала до конца, как и многие свои анекдоты. Он утверждал, что он сам — или кто-то из его друзей — однажды слышал такой телефонный разговор: «Но товарищ Молотов, вы же художник!.. (Пауза — Молотов что-то ответил на том конце провода). Товарищ Молотов, но вы же преступник!.. (Снова пауза — те, кто слышат разговор, приходят в ужас). Как вы могли так долго таить от нас вашу великолепную статью! Это настоящее преступление! Ни у кого нет такого отточенного слога, как у вас, товарищ Молотов!»
Случай этот потому казался забавным, что в Советском Союзе среди многочисленных авторов, чьи статьи навевали смертельную скуку, старина Молотов, бесспорно, завоевал пальму первенства. А теперь Хайнц заявлял, что «герой» этой байки сидит с Мануильским на лавочке. Я еще раз посмотрела на него, и у меня не осталось ни малейшего сомнения, что байка основана на правде.
Слово «подхалимство» еще в старину приобрело на Руси огромное значение. Но и при советском режиме оно никуда не делось. Позже я часто вспоминала встречу, которая произошла полтора года спустя после нашего пребывания в Рублеве. Было ясное зимнее воскресенье 1936 года. Мы втроем — Хильда Дьюти, Хайнц и я — отправились в Серебряный Бор на берегу Москвы-реки, где так любят гулять москвичи. Мы гуськом шли по узенькой утоптанной тропке между сугробами, громоздившимися по берегам реки. Над ослепительно белыми просторами сияло бледно-голубое безоблачное небо, и кристаллы льда сверкали в совершенно неподвижном, чистом воздухе. Любуясь этим великолепием, мы почти забыли безрадостные московские будни и чувствовали, что мы еще молоды и полны жизни. С хохотом мы валялись в свежем снегу. На километры вперед тянулись плавно изгибающиеся берега реки, и ни единой живой души вокруг.