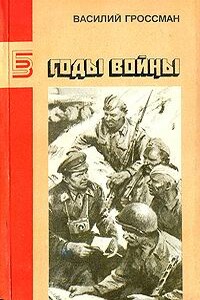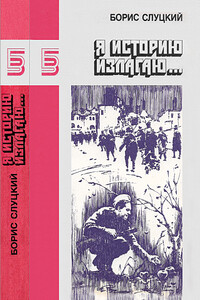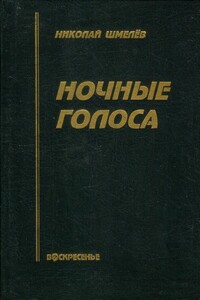Истоки. Авансы и долги | страница 83
С товарно-денежными отношениями, с законом стоимости шутки плохи. Не тот экономист является товарником, кто признает деньги, платный кредит, самоокупаемость. Эти слова теперь все уважают. Товарник тот, кто настаивает на определении оптовой цены с учетом голоса покупателя, кто почитает закон стоимости в полном объеме, а не усеченным, преобразованным или еще как-то выхолощенным.
Вряд ли вам доводилось слышать такое рассуждение: «Не тот нынче стал закон всемирного тяготения, ох не тот. В ньютоновские-то времена… Ну, бывало, и созорничает по молодости лет — яблоком или чем покрепче приласкает по голове, не без того. Но ведь планетами управлял! Теперь куда ему до прежнего — постарел, одряхлел». Все понимают — шутка. Но закон стоимости тоже объективен, от нашей воли независим. К нему можно лишь подладиться, но отнюдь не преобразовать или свести на положение углового жильца. Опыт 60-х годов отменно продемонстрировал, чем опасны такие упражнения.
Экономические процессы, раз начавшись, приобретают инерцию движения. В 60-е годы темпы роста падали, но оставались еще довольно высокими: за все десятилетие национальный доход прирос на 17, в 10-й — на 5 %, а в первые годы 11-й произошло уже абсолютное его падение, и только памятные всем нам энергичные меры несколько выправили положение: в целом за минувшее пятилетие прибавка Дохода составила 3 %, что меньше прироста населения.
Где корни этого явления? Каждому ясно, что правильный диагноз — предпосылка успешного лечения. Но относительно диагноза в экономистах согласия нет, и со временем мнения расходятся все больше.
5
Вспоминается случай, когда на одной из дискуссий в небольшой аудитории экономистов зашла речь об отдаче капитальных вложений. С младых ногтей мы привыкли думать, что наша страна строит больше всех в мире. Сейчас приоритет теряем. Расходуем до 200 млрд. руб. в год, а вводим новых мощностей все меньше и меньше. Что же, строить разучились?
Собственно, объяснение было под рукой, его сотни раз приводили в печати. За природными ресурсами приходится идти в гиблые, необжитые края, где все надо начинать с нуля. Дешево там не построишь, значит, на другие нужды средств остается меньше. Возьмите сибирскую нефть…
Когда прозвучал этот аргумент, один из нас, соавторов, осторожно высказал сомнение. А поскольку мы давно понимаем друг друга с полуслова, другой на лету подхватил мысль.
Упрекать нефтяников в чрезмерных тратах, начали мы, неблагородно. Заглянем в справочник «Внешняя торговля СССР в 1984 г.». Из 74 млрд. руб. годовой экспортной выручки 38 млрд. (больше половины) получено за нефть и газ, в том числе 31 млрд. за нефть. Не будь этих денег, как страна покупала бы технику, хлеб, одежду, сахар? В 70-е годы ситуация была как раз благоприятной для нашего экономического развития. Исключительно благоприятной. Добыча нефти увеличилась фантастически, цены на нее на мировом рынке круто шли вверх. Такого стечения обстоятельств, вероятно, больше уже не будет. Объективные трудности начинаются только теперь — добыча нефти стабилизировалась, увеличивать ее экспорт вряд ли удастся, а цены на мировом рынке упали в 3 раза. И, скажем, за тонну зерна сегодня надо отдавать 3 т нефти, хотя недавно меняли практически тонну на тонну. А покупная техника? В 1984 г. ее приобрели на 24 млрд. руб. Это главная статья нашего импорта. Учтем, что не в пример нефти техника на мировом рынке дорожает.