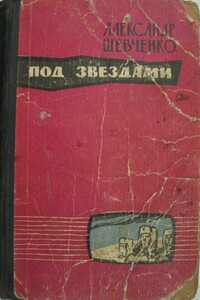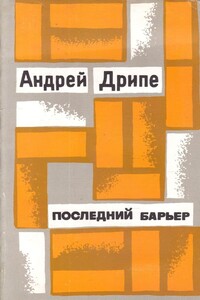Всюду жизнь | страница 115
Он вернулся в избу, дровами, заготовленными жившими на заимке охотниками, разживил сложенную из камней печку — дыма он уже не боялся, так как уходил из избы навсегда. Сварил в котелке пшена и поел. Забрал остатки продуктов, обернул израненные ноги тряпками и тронулся в сторону Студеной, которая текла там, где восходило солнце.
Пройдя совсем немного, сильно вспотел и почувствовал слабость и ломоту во всем теле. Подумал, что это от усталости и голода, и пошел дальше. Силы уходили из него с каждым шагом, тело охватил жар, голова кружилась, перед глазами мелькали огненные пятна. Он не понимал, что происходит с ним, и торопился поскорее добраться до пристани. Наверное, заболел, а там, среди людей, болезнь не страшна. Все чаще приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть и набраться сил. Но подниматься и снова идти с каждым разом становилось все труднее.
Сидя на мшистой кочке, сквозь звон в ушах услышал отдаленный голос, будто кто-то аукался. Но на зов отклика не было, значит, человек тот один. Кого же он зовет?
Федя пошел на звук и скоро различил протяжный, замирающий среди деревьев женский голос:
— Ау-у-у! Ау-у-у-шеньки!
Он вздрогнул: ему показалось, что женщина произнесла его имя. Если это мать, не выйдет к ней. Раздвинул скрывавшие его кусты черемушника и увидел то появляющуюся, то исчезающую между сосен одинокую женскую фигуру. Затаился: кто же это? На мать непохожа… Идет с корзиной, опираясь на палку, наклоняется, видно, грибы подбирает. Вот женщина остановилась, подняла голову, огляделась окрест и, приложив ладонь ко рту, произнесла:
— А-у-у-у! Фе-е-дя-а! Фе-дя-ша-а!
Федя обмер: это же бабушка Евдокея! На плечи накинута ее красная клетчатая шаль… Кого он больше любил — мать или бабушку Дусю — не мог сказать. Тихая, добрая, потерявшая двух сыновей, она всю любовь тоскующего материнского сердца перенесла на своих осиротевших внучат.
Еще раз поглядев во все стороны, бабушка пошла, сгорбившись и тяжело опираясь на палку. Да это же та самая клюка, которую Федя вырезал ей из орешника!
Какое-то мучительное и вместе с тем радостное чувство жалости и любви к бабушке подняло его будто на крыльях, он бросился к ней и, рыдая, обнял.
— Ну, окстись, родимый, ну, уймись, — торопливо гладила его голову бабушка. — Да ты горишь весь! Никак у тебя лихорадка! Присядем, ноги что-то отнялись, от радости, видно…
Сели на упавшую сосну. Бабушка развязала узелок, разложила на коленях яйца, хлеб, щепотку соли в клочке газеты.