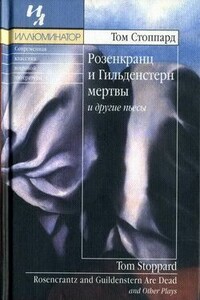Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести | страница 10
Перечисляя в одной из незаконченных статей 1830 года, «что нужно драматическому писателю», Пушкин называл наряду с живостью художественного воображения «философию» и «государственные мысли историка». В изложении исторических событий поэт в основном следовал за «Историей Государства Российского» Карамзина. Из нее взял он почти весь фактический материал, у него же заимствовал недоказанную версию об убийстве царевича Димитрия по приказу Бориса. Однако, следуя Карамзину «в светлом развитии происшествий», Пушкин решительно отверг проникнутую консерватизмом и монархическим духом общую схему его «Истории».
В пушкинской трагедии угрызения совести царя-преступника — не главное; в ней показан «мирской суд» над Борисом — суд истории, причем убийство Димитрия играет, в сущности, второстепенную роль, а появление Самозванца — всего лишь последний толчок, давший возможность вырваться наружу враждебным царю Борису социально-историческим силам. Не поединок между Борисом и Самозванцем, а именно борьба социальных сил составляет истинный предмет основного конфликта пушкинской трагедии.
Существенной частью его является борьба родовитого боярства с Борисом, в которой принимают активное участие и предки самого поэта — «род Пушкиных мятежный». Но этим социальное содержание трагедии отнюдь не исчерпывается. Борис Годунов, сокрушавший старинное боярство, был вместе с тем и царем-крепостником. Именно этим и объясняется глубокое недоверие и нелюбовь народа к Борису, на что и рассчитывают в борьбе с ним мятежные бояре. И вот в трагедию Пушкина включается главная социальная сила, имеющая решающее значение — «мнение народное».
Мысль эта составляет один из важнейших философско-исторических тезисов Пушкина, связанных — пусть подспудно — с его раздумьями о судьбе переворота, подготовлявшегося декабристами в отрыве от широких народных масс. С особенной выразительностью сказывается это в финале трагедии, завершающейся знаменитой фразой: «Народ безмолвствует». В этом «безмолвии» заключена вся дальнейшая судьба Самозванца. Пока народ был на его стороне, он, беглый монах, «сорвал порфиру» с могучего московского царя; поскольку народ от него отвернулся, его ждут быстрое свержение и бесславная гибель. То, что Пушкин выносит свой приговор именем суда народного, является самой замечательной чертой его исторической трагедии, которая действительно, не только по всему своему совершенно новому драматургическому строю, но и по идейному содержанию, может быть названа трагедией народной.