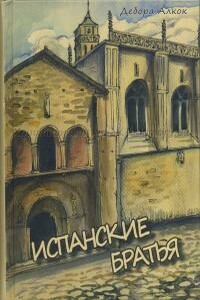Взгляд змия | страница 98
Мне по душе это раннее утро, я, хохоча, раскачиваюсь в стороны, постукиваю пальцами о блестящую скамью, глаза мои скачут с предмета на предмет, прищуриваясь, когда я задерживаюсь и гляжу на что-то внимательнее, и вновь широко раскрываясь, когда взгляд безостановочно прыгает по поверхности вещей. Чуешь, тятенька, как я прыток?
Я что-то говорю мужчинам (говорю, шепелявя – с малых лет я немного шепелявлю), и один из них, раззадорившийся больше других, отвечает мне, передразнивая мою шепелявость. Казалось бы, я ничего не заметил, не обратил внимания, я и дальше ерзаю на своей скамье, а взгляд мой скачет по предметам, казалось бы, ничего не случилось.
Но нет, зрачки у мужчин понемногу расширяются. Сам я ничего плохого не чувствую, а они уже видят. Дяденьки эти смотрят на мои руки, и губы их покрываются белесой плесенью. Руки, щупавшие и ковырявшие древесину скамьи, теперь лежат смирно. Я еще ничего не подозреваю, а они уже знают, что мои руки берут меня под свою власть. Ладони, тятенька, успокоились настолько, что, кажется, даже кровь не течет в их жилах, кажется, они умерщвлены, кажется, они единственная неподвижная вещь в этом огромном мире, где все движется, бежит, падает, рождается, уносится, шевелится, плывет, ползет и так далее. Бездействие моих ладоней и пальцев отдает мерзейшей стужей, небытием. Белые застывшие руки – знак смерти.
Тебе, дедушко, покажется, что мое тело, мой мозг противятся странному покою рук. Мускулы, кости из последних сил напирают, надвигаются на хлад, объявший руки. Все тщетно: покой моих рук подчиняется только дьяволу, только «нет», и притязания любых жизненных духов, кричащих «да», заранее обречены на провал.
Ни один из мужчин, рассевшихся вокруг стола, не думает об этом. Мои руки, стынущие на бурой скамье, исподволь сковывают их движения, парализуют мозг, словно взгляд ужа, заставляющий окаменеть мышь. Мои руки перечеркнут жизнь одного из них. Что-что, а это они знают точно.
Когда руки наконец приходят в движение, то кажется, что они едва шевельнулись на скамье, и больше ничего, чуть шевельнулись, и только. Но почему тогда красная, густая, как речной ил, кровь льется из перерезанного горла на стол, на перья лука, на окорок, тихо омывает монеты и нарезанный зернистый хлеб? Отчего она льется по каменному полу куда-то под порог?
Вот какова дьявольская сила моих рук. Мог бы ты это себе представить, батюшка?
– Признайся, Мейжис, это ты поджег отчий дом.