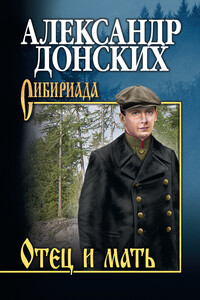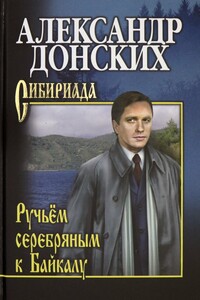Яблоневый сад | страница 156
Если же говорить о Сибири, то здесь у нас образовался крупнейший кооператив – «Закупсбыт». Его деятельность привела к тому, что, к примеру, общее поголовье скота к началу ХХ века увеличилось просто неимоверно, а пахотных земель стало немерено. Во всех хозяйствах были маслобойни, и, к слову, аглицкая королева, ходил слух, не садилась завтракать, если в меню не значилось сибирское сливочное масло. Так-то! Всеохватно вошли в производственную деятельность крестьянина технически более совершенные сеялки, веялки, многолемешные железные плуги, жнейки, косилки и даже – трактора. И многое множество других и механических, и электрических, и другого рода-звания приспособлений становились обыденным делом, правда, в основном американского или немецкого производства; но и у нас технологические линии уже разворачивались. За несколько лет «Закупсбыт» вывез из Америки товаров на 4,2 миллиона долларов – это огромаднейшая сумма для тех времён. Торгагенты закупали сельскохозяйственные орудия, инструменты, железные товары, электрические приборы и всякие другие штуковины-диковины. А продал «Закупсбыт» той же Америке сибирской продукции более чем на 5 миллионов долларов. Вот и думайте, сравнивайте с современной действительностью!
Что ещё нужно отметить? Бедноты в Сибири не было. Ну вот не было, и всё ты тут! Народ трудился, молился и – богател. В каждом подворье было по 17–18 голов крупного рогатого скота, лошадей, а остальной живности – неподсчётным оставалось, хотя какие-то цифры в официальных ведомостях назывались. А сколько храмов, монастырей народилось тогда! Есть подсчёты и мнения, что за всю предшествующую историю Руси-России столько не возводилось.
Любопытно. Но что же дворянство, так сказать, высшее общество? Как оно себя проявляло?
Я приведу несколько прелюбопытнейших документов, чтобы было понятно: дворянская, вскормленная в веках православием, самодержавием, народностью, культура пронизала собою всё, в том числе жизнь крестьянина, добытчика, заводчика, государева человека – сибиряка, одним словом. Мне посчастливилось где-то в конце 80-х или в самом начале 90-х годов ознакомиться с фондами маленького провинциального музея, что там! – музейчика: всего-то одну крохотную комнатку занимал он, приютившись при Иркутском институте усовершенствования учителей, в котором я работал методистом по проблемам сельских школ и который находился, к слову сказать, на улице Российской. А назывался он гордо и самостийно – Музей народного образования. Помню: всюду стопки потёртых папок, фотоальбомов, вороха пакетов, мешочков, связок, рулонов, коробок, теснящихся по стенам стендов и чего-то, чего-то ещё и ещё, старинного, пропылённого, ветхого, самодельного. Всё-всё я дотошливо перебрал, переворошил, совершенно захваченный новыми для меня сведениями и свидетельствами, документами и артефактами, текстами и образами.