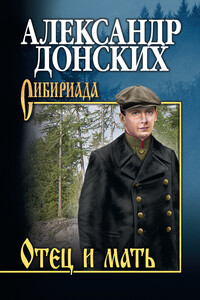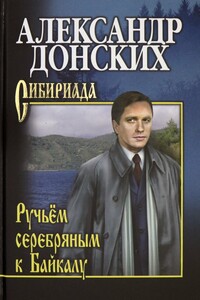Яблоневый сад | страница 157
Это было преддверие тех самых шальных 90-х годов, когда наша страна, ещё Советский Союз, искала правды, каких-то новых смыслов, озираясь по всем странам света в очевидном отыскивании ответа на самой себе заданный, уже в который раз за века, сакраментальный, порождаемый, несомненно, её страдающей совестью вопрос: что делать? В нём высвечивались разные подвопросы: как жить, куда идти, кто наш друг, кто наш враг, то ли, так ли сделали? – и миллионы других вопрошающих вариаций, которые задавали себе и друг другу и мы, граждане страны. Я точно помню – жил как в тумане, не видя ясных путей в жизни. Ей-богу, хоть кричи тогда, как в «Прощании с Матёрой». Помните?
В конце концов, отчаявшись куда-нибудь выплыть, Галкин выключил мотор. Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана…
Ма-а-ать! Тётка Дарья-а-а! Эй, Матёра-а!..
Не докричались герои повести Валентина Распутина. И мы, накричавшись тогда на съездах, митингах и собраниях, тоже ведь не докричались.
Точно! А надо было не кричать, вернее, не только кричать, шуметь, суетиться, как на пожаре. Да и как, впрочем, сдерживаться было, Эдуард Константинович, если отовсюду – ура! – даёшь революцию! – даёшь перестройку! Но тем не менее не шуметь, не егозить надо было, а – глубже, зорче посмотреть в себя, в нашу общую память, в нашу историю, культуру, быт, язык, прислушиваясь прежде всего к большим писателям, таким, как Валентин Распутин. Но – не слышали их голосов! Себя любимых слушали!
Вот мне тогда, в гуще стихий человеческих и государственных, неожиданно подфартило пристать к бережку в крохотной гаваньке и – увидеть нечто для меня тогдашнего совершенно необыкновенное, что отчасти поворотило мою жизнь, а потом мало-помалу подвело к тому, что я смог вглядеться и в себя, внешне нравственно разлохмаченного, как панк, и в русскую нашу историю, и радующую душу, но и нередко леденящую её своими сюжетами и разворотами, и к языку нашему чудесному приглядеться уловчился.
Выдержки из документов я использовал в статье «Голоса из прошлого». С вами поделюсь впечатлениями ещё от нескольких, затронувших меня. В «Учительском катехизисе» конца XIX века повстречал такие изумительные строки: …обращаясь в целом к классу, не забывай, что у каждого ученика свои собственные возможности и способности, на них и ориентируйся. Вот вам современное разноуровневое обучение, о котором мы которое десятилетие кричим, а претворить в реальные дела не