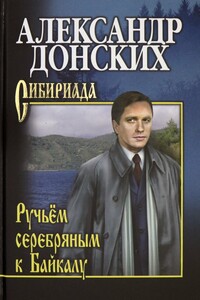Яблоневый сад | страница 120
И как повершение, и как благодарность и одновременно покорность Судьбе – зазвучал на весь белый свет, для всего честного народа гимн, с посвящением, редкостным в любовной лирике своей хотя и сугубо интимной, но окрылённой распахнутостью, – «Женечке»:
Вот тут бы мы здорово удивились и, кто знает, не заругались бы, встреть хотя бы одну-единственную козявочку-запятую! Здесь поёт душа поэта; а душа живёт по своим, маловедомым нами законам.
Но, однако, вернёмся, так сказать, к теоретическим аспектам темы жизнелюбия и самого Владимира Скифа, и, соответственно, его стихов: что-то ещё из существенного мы не сказали, потому что с радостью сам поэт воскликнул:
Но в чём же суть? Не в этом ли? –
Да, мы порой хотим ясно и определённо сказать: суть существования – в творчестве, в развитии, через что мы и можем творить-созидать свои миры и себя в них. Но если уж быть совсем точным и справедливым, прежде всего, к самому себе, то – не хочется, не хочется, и всё ты тут! знать, в чём суть существования. Пусть и она и оно будут загадкой в нашей жизни земной, чтобы мы не расслаблялись, не успокаивались, не засиживались на одном месте, а – искали, переживая, отчаиваясь, воспаряя.
Ноты жизнелюбия, жизнерадостности поют на разные голоса, как птицы, то там, то тут в его стихах, и в молодых, и не очень. В двадцать шесть он заявляет, почти что с вызовом:
В тридцать:
А в пятьдесят (или около этого) – похоже, что он – безнадёжно безнадёжный:
Безнадёжно безнадёжный, конечно же, для греха уныния.
И если в период его поэтической зрелости и – её же – поэтической мужественности появляются такие стихи: