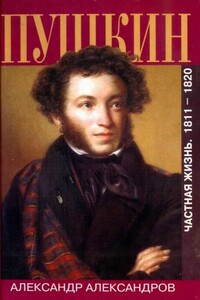Известный аноним | страница 35
— А знаете ли, почему Пушкин был так внимателен и вежлив к нему?
— Почему же? Ведь он был со всеми таков.
— Нет, — отвечал Плетнев, — с ним он был особенно внимателен — и вот почему. Я как — то раз утром зашел к Пушкину и застаю его в передней провожающим Дирина. Излишняя внимательность его и любезность к Дирину несколько удивила меня, и когда Дирин вышел, я спросил Пушкина о причине ее.
«С такими людьми, братец, излишняя любезность не вредит, — отвечал, улыбаясь, Пушкин.
«— С какими людьми? — спросил я ус удивлением.
«— Да ведь он носит ко мне письма от Кюхельбекера… Понимаешь? Он служит в III-м отделении.
«Я расхохотался и объяснил Пушкину его заблуждение.
Дирин, разумеется, ничего не знал о подозрении Пушкина; он пришел бы от этого в отчаяние».[78].
Дирин был человек скромный, он часто бывал у Пушкина, при литературных разговорах все сидел в углу и слушал. Он перевел и подарил Пушкину книгу Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». Она сохранилась в библиотеке Пушкина.[79].
Пушкин проявил истинное участие в молодом переводчике и написал отзыв о книге, которая только должна была выйти, в № 4 «Современника», в разделе «Новые книги».
Но вернемся к поэме Кюхельбекера, можно предположить, что Пушкин спешил ее выпустить к юбилею Царскосельского лицея 19 октября 1836 года, когда должна была состояться 25‑я лицейская годовщина. Но, видимо, не эта дата толкнула его к напечатанию, иначе бы он, зная сроки выхода книг, начал бы свои действия раньше. Цензурное разрешение на издание «Русского Декамерона» было получено 10 октября 1836 года, билет на выход книги подписан цензором только 25 ноября. В этот отрезок времени укладывается вся первая часть дуэльной трагедии, включая свидание Натали с царем, вызов Дантеса, объявление о помолвке Дантеса и Екатерины, аудиенция у царя. Незадолго до этого, в конце августа, он написал знаменитое стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Нет смысла его цитировать, его все знают. Наряду с поэмой Кюхельбекера, его можно считать духовным завещанием поэта.
«Зоровавель» был издан анонимно стараниями Пушкина в составе книги «Русский Декамерон 1831‑го года», где сама поэма перемежается прозаическими разговорами о ней. «Не я, графиня, заставил его (Зоровавеля — А. А.) говорить то, что вы слышали: речь его, как и всю повесть, взял я из 3 и 4 главы Второй книги Ездры».[80]. Новую книжку своего ссыльного друга Пушкин наверняка подарил всем своим друзьям, у нас нет сведений об этом, но мы допускаем, что эту книгу никто не захотел обсуждать, зная, чьему перу она принадлежит. Имена государственных преступников упоминать было запрещено. Кстати, заметим, что цензором книги был П. Корсаков, который позволил печатать и последнюю книгу самого Пушкина, вышедшую перед самой дуэлью, миниатюрное издание «Евгения Онегина». Пушкин выпустил книжку своего друга с той же целью, что и написал анонимное письмо: объяснить своим друзьям свою позицию, не зря он вернулся к этой позиции в письме к графу Толю. В этом письме Пушкин, скорее всего, цитирует Зоровавеля из поэмы Кюхельбекера, но ссылается на Священное писание. К позднейшей переработке поэмы сам Кюхельбекер сделал примечание к упоминанию о жемчужине царя Цейлонского: «Об этой жемчужине пусть прочтут хоть в замечаниях к Муровой поэме «Lala — Rukk». Нарочно ссылаемся на книгу, доступную несколько образованному читателю, потому что смешно в цитатах щеголять видом учености, почти всегда очень дешево купленной».