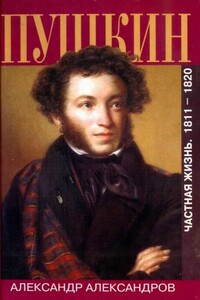Известный аноним | страница 15
Общеизвестно, что сразу после дуэли царь довольно снисходительно относился к кавалергарду барону Егору Геккерну, как он официально числился по документам, и уж тем более к его приемному отцу, который не отвечал за сына. Лишь после смерти Пушкина, когда ему стали известны все подробности интриги двоих Геккернов, он в письме к своему брату Михаилу в Рим обозвал старшего Геккерна «гнусной канальей». Ведь Геккерн сводничал Дантесу, уговаривал жену Пушкина отдаться Дантесу. Именно это сводничество вывело царя из себя, эти господа вполне серьезно пытались перебежать ему дорогу. Как посмели! А уж личину можно было надеть любую, даже хранителя семейного очага своих подданных. «Ты был не царь, а лицедей», — писал о нем Тютчев, поэт, царедворец и дипломат.
ИСТОРИОГРАФ ОРДЕНА РОГОНОСЦЕВ
4 ноября 1836 года по городской почте Пушкин и его ближайшие друзья получили по почте в двойном конверте следующий диплом, писанный по — французски:
«Кавалеры первой степени, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев, собравшись в Великий Капитул под председательством высоко почтенного Великого Магистра Ордена, его превосходительства Дмитрия Львовича Нарышкина, единогласно избрали г-на Александра Пушкина заместителем Великого Магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена. Непременный секретарь Иосиф Борх».
Долгие годы до революции, официально считалось, что в дипломе содержится намек на Дантеса и Наталью Николаевну. Это была официальная версия, которую старательно поддерживали друзья поэта, царедворцы: Вяземский, Жуковский, Виельгорский. Даже странно, насколько устойчива традиция. В дипломе даже намека на это нет. Потом все разъяснилось: намеки по царской линии уже ни у кого не вызывали сомнения. Но в последние годы все стало поворачиваться вспять. С. Л. Абрамович, долгие годы посвятившая дуэльной истории, старательно подчеркивает, что «среди откликов того времени нет ни одного, в котором бы речь шла о намеке на царя… Никто из тех, кто знал точный текст пасквиля, ни разу не высказал догадки о том, что в нем есть намек на царя».[38].
Напрасно думать, что Пушкин не достиг своей цели и никто его не понял; его друзья, некоторые из которых прекрасно постигли намек, содержавшийся в анонимном письме, просто боялись произнести вслух имя царя, а тем более отразить это на бумаге, т. е. задокументировать. Таинственно говорили лишь о некой «тайне», окружившей смерть поэта. Князь Вяземский дважды писал об этом в письмах: «Многое осталось в этом деле темным и таинственным для нас самих» (Из письма Вяземского к А. Я. Булгакову 5 февраля 1837 г.). «Эта история, окутанная столькими тайнами, даже для тех, которые наблюдали за ней вблизи…» (из неопубликованного письма П. А. Вяземского к Э. К. Мусиной — Пушкиной 26 февраля 1837 г. Подлинник по — французски.)