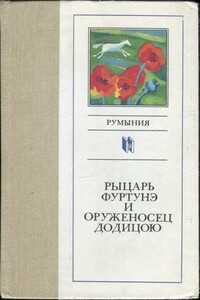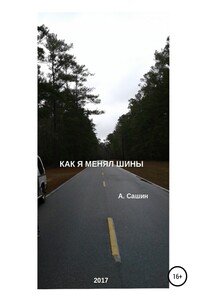Неразделимые | страница 41
Постепенно у них стало получаться. Немецкая речь слышалась все чаще. Что ни день — на миллиграмм больше.
Возрастал также ужас перед бомбардировками. Каждый вечер мы в полном смысле слова дрожали от страха, укладываясь в свои убогие постели, и долго вслушивались в угрожающую темноту, в которой раздавались шаги и скрип песка под ногами.
Люди начали собираться по ночам и о чем-то сговариваться.
Из темноты мне стала являться нечистая сила, обдавая меня своим сернистым дыханием.
В кухне и в комнате у нас стояло множество посудин с водой, даже ушат и ванна, на случай, если завтра вода и вправду окажется отравленной или вдруг ночью загорится барак.
А днем с необыкновенной легкостью одна паника сменяла другую. Так, например, тетки строго внушали мне, чтобы я, не дай бог, не поднял с земли какую-нибудь брошенную вещь, особенно авторучку. Говорят, будто в Хрушице десятеро детей ослепло из-за авторучек, которые они подобрали. Это были немецкие адские машины. (Их что, в аду изготовляют?)
Близилось вербное воскресенье, и старый, добрый Пайер с куриным зобом пошел на Обранцу, где рос можжевельник и другие кустарники. Наломав и нарезав всяких веток, он принес их домой, потом сходил еще в Грабен за прутьями вербы и связал три больших букета — «боганцы» и два маленьких, игрушечных, величиною с вершок.
К большим боганцам мы потом привязали апельсины, яблоки, инжир, а на самую верхушку, словно хвост, водрузили оливковую ветку. Листья ее, сожженные вместе с можжевельником и ладаном, считались отличным средством против сильной грозы. (Молнии сразу уходили в землю.)
В вербное воскресенье, едва мы выбрались из своих гнезд, как тут же услышали новость: мы уже находимся в состоянии войны с немцами, и рано утром столица королевства Югославии подверглась бомбардировке. Ее бомбят и сейчас, прямо засыпают бомбами.
Это нам сообщила прибежавшая бабушка, одетая по-праздничному. Она потребовала, чтобы мы пошли к ней послушать радио.
И мы пошли.
Войдя в комнату, мы закрыли за собой двери. По радио кто-то так орал, что приемник чуть ли не трясся. Отчетливо слышно было лишь одно слово, протяжное и трескучее, словно испражнялась обезьяна: «Ausradieren, ausradieren, ausradieren»[8]. За этой трескотней следовал звонкий, легкий: «Хайль… хайль… хайль…»
Мы стали переглядываться. Поняли, что слушаем Адольфа Гитлера.
«Ausradieren» означало, что нас следует стереть с лица земли — меня, маму, отца, сестренку.
«Хайль, хайль, хайль» означало одобрение таких действий.