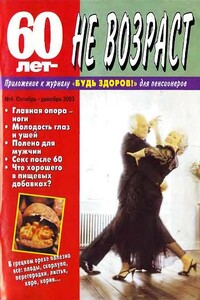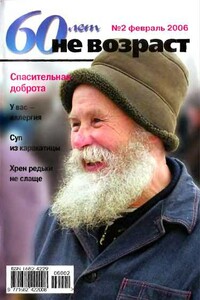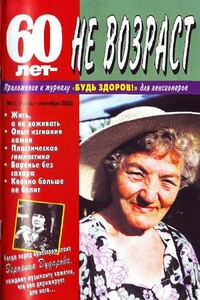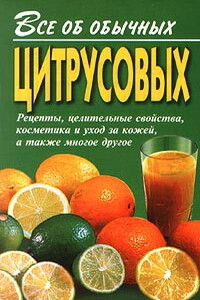60 лет не возраст, 2001 № 02 | страница 6
Родственники часто спрашивают меня, надо ли рассказывать больному об истинной тяжести его заболевания. На этот вопрос не может быть однозначного ответа. С таким человеком, как Федор Сергеевич, я предельно откровенна, потому что вижу: он изучил свою болезнь, правильно ведет себя в критические моменты, не паникует, не нервничает попусту. Есть у меня и раковые больные, которым я тоже говорю правду, потому что вижу: это сильные люди, которых знание мобилизует на борьбу с грозным недугом. А другим пациентам с гораздо менее опасными заболеваниями даю лишь необходимую для нашего взаимодействия частицу информации, потому что более подробные сведения приведут их в паническое состояние.
Недавно я была на курсах повышения квалификации по семейной медицине. Считается, что это новая, вернее, давно забытая и теперь возрождаемая специализация врача. А я обнаружила, что правила семейной медицины всегда применялись и применяются сельскими врачами. В деревне каждый человек на виду, и люди более открыты, чем в городе, сами о себе все рассказывают. Может быть, поэтому в нашей больнице и уклад более домашний. Наш главный врач Николай Андреевич Арапов, например, находит возможность посадить в свою машину пожилую пациентку и отвезти ее на консультацию к районному специалисту. А если кто-то удивляется этому, то слышит от него в ответ: «Кого же мы должны лечить, если не пожилых людей? Они ведь прежде всего нуждаются в медицинской помощи».
Действительно, если любишь свою профессию, то нужно любить и каждого пациента, даже ворчливого и раздражительного. Надо просто войти в его положение, понять и помочь.
В моей практике как-то произошел тяжелый случай — из разряда тех, которые в работе врача все-таки неизбежны. На моих глазах погибла молодая еще женщина, дети которой учились в школе вместе с моими. Ее выписали под наблюдение медиков по месту жительства из московского диспансера, где она безуспешно лечилась от злокачественного заболевания крови, и мы ничем не могли ей помочь. А она умоляюще смотрела на нас и просила: «Спасите меня ради моих детей». Я делала все что могла, ощущая при этом свою полную беспомощность. Когда она умерла, я не могла работать. «Зачем я здесь, если жизнь человека ушла, как песок сквозь пальцы, и я не смогла удержать ее?» — эта навязчивая мысль преследовала меня. Словом, я переживала тяжелую депрессию.
А возвратили меня к жизни мои любимые пациенты, которые нуждались в моей помощи. Помогая им решать их проблемы, я постепенно восстановила свое душевное равновесие и вновь прониклась сознанием того, что мои знания и умение нужны больным. Так на собственном опыте я поняла, что если отношения врача и больного искренни и доброжелательны, то это помогает обоим.