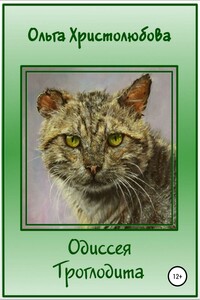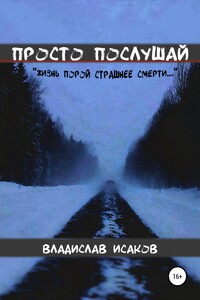Ковчег Лит. Том 1 | страница 49
— А смерти нет.
— Как — нет?
— Так. Когда человек умирает, душа остается живой и попадает в другой мир. Туда, где живут Бог и ангелы.
— На тот свет, что ли?
— Ну да. Видишь, ты и сам все знаешь.
Знать-то я знал, все-таки мне уже почти десять. Третий класс закончил. И энциклопедию медицинскую читал. И в Библию бабушкину заглядывал. Да что толку? Если так все просто и не страшно, то чего же сама мысль о смерти вызывает страх? Что-то здесь не так.
— Ба, а долго на том свете после смерти живут?
— Долго. Вечно.
Мерно тикают настенные часы с гирями. Пыльно и тихо тут у бабушки в ее квартире на Комсомольской улице. Она вяжет, а я рисую цветными карандашами индейцев, которые убивают ковбоев, и, наоборот, ковбои убивают индейцев. Кровь, стрелы, пули. Смерть.
— Ба!
— А?
— А если папа мой, например, завтра умрет, или мама, то это значит, ничего страшного, они все равно живые и плакать не нужно?
— Боже! Что ты такое говоришь!
У нее аж очки на лоб выехали и щеки задрожали.
— Ага! Видишь, ба. Почему же люди тогда умирать не хотят, если смерти не существует?
— Да кому ж умирать по доброй воле хочется… — бабушка явно растеряна.
— А почему, если просто в другой мир переходишь, к ангелам? Там же хорошо, на том свете, ты сама говорила.
— Да потому что… Потому что так положено — умирать человеку. Но — каждому в свое время, когда старым становишься. Вот если умрешь раньше срока, молодым — тогда плохо.
— То есть, если я умру в свое время, ну там лет в сто, ты не будешь плакать?
Бабушка охает, потом смеется, встает, гладит меня по голове и говорит что-то успокаивающее. Она забывает сказать, что она сама старая и поэтому должна умереть раньше меня. А я уже готовился сказать, что так и быть, плакать не буду, когда она умрет в свой срок, лет в девяносто. Но не говорю. Бабушка ведет меня на кухню, чтобы накормить обедом. Наливает в тарелку красный борщ, отрезает черного хлеба — хрустящую горбушку, как я люблю, натирает ее солью и чесноком. Я беру ложку, откусываю от горбушки.
— Ба!
— А?
— А ты когда в моем возрасте жила, что делала?
— То же, что и ты, в школу ходила. Церковно-приходскую. А потом в наш Игрень махновцы приехали.
— Махновцы? Те самые?
— Ну да. Война же была, гражданская.
— Это же сто лет назад было!
— Ну да. Видишь, какая я старая, — усмехается бабушка.
— И что махновцы, стреляли? Убивали, мучили?
— Нет, не мучили. Махновцы были веселые, меня на тачанке увезли.
— Как? Ба, ну ты даешь! Расскажи.
— Так я и рассказываю. Остановилась тачанка с пулеметом возле нашего дома, из нее знамя торчит, черное, с нарисованным черепом и костями и надписью белыми буквами «Свобода или смерть». В тачанке трое сидят, и командир их, усатый, в папахе, в пулеметных лентах, спрашивает, как лучше к Днепру на переправу проехать. Я говорю: я знаю, могу показать. Он: «Сидай, дивчинка!» — и сам улыбается во весь рот. Я — прыг на тачанку, махновец как дернет за вожжи, закричит: «Ну, пошла!» В это время из дома мама моя, твоя прабабушка Аня, вышла, ей люди кричат: «Смотри, Нинку махновцы увезли!» Мама в крик, в слезы, да только тачанки уже след простыл. Довезли меня до обрыва, откуда переправу видно, я все им рассказала, показала, меня махновцы отпустили, велели домой бежать и еды дали: сало, хлеб, огурцы. И я помчалась по дороге. Прибегаю к дому — а меня уже все похоронили, плачут. Мать как увидела меня живую, хотела высечь, но когда я ей еду отдала, передумала. Голодно тогда было. Ешь давай.