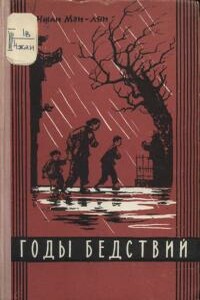Посиделки на Дмитровке. Выпуск 8 | страница 127
Не выспавшийся, обвешанный сумками с аппаратурой, я шел последним. Жена, идущая налегке, то и дело останавливалась и, жалея меня, просила, чтобы я дал ей что-нибудь понести. Но и ей подниматься тоже было нелегко.
Мы пробирались все выше и выше. Лесной пояс остался позади. Тропа становилась круче. Вот и альпийские луга. Под ногами ручьев уже нет, воздух прозрачен и свеж. Где-то местами еще попадаются небольшие хвойные деревья, кусты сибирской кислицы — дикой красной смородины, горьковатой на вкус.
Начался штурм курумника. Это был, пожалуй, самый непростой момент при восхождении. И тут я заметил, что мои дочки наравне с взрослыми перепрыгивают с камня на камень через глубокие расщелины, как горные козочки. «А нам еще советовали не брать их с собой», — подумал я и, радуясь за своих девочек, прибавил шугу.
Мы с женой находились еще метров за двести-триста до горловины вулкана, когда вся группа исчезла из виду, приступив к спуску в кратер по единственному пологому склону. Мы остались одни. Я подготовил камеру к работе и оглянулся. Там, внизу, на поляне, окруженной густым лесом, можно было разглядеть наш «Урал», а рядом с ним — рогатого лося. Видимо, любитель рыбалки крепко уснул и не заметил любопытного зверя. Лось, решивший обследовать наш грузовик, с высоты казался муравьем. Подальше изумрудный лес становился сине-зеленым, а потом переходил в бесконечный темно-синий таежный ковер. Он, этот вытканный из стройных пихт и пушистых кедров ковер, где-то был гладкий, местами — весь в буграх и складках, словно по нему в пляске прошелся какой-то великан, ростом выше самих гор. Отсюда, если правильно сориентироваться, можно было видеть юг Красноярского края, северную окраину Горного Алтая, Хакасию, а за ней, возможно, Туву.
Кромка жерла вулкана была уже в нескольких метрах от нас. Глядя в видоискатель камеры и контролируя свое движение боковым зрением, я стал снимать поросшие мхом и лишайником камни, ожидая того момента, когда моя нога станет на последний из них, за которым окажется обрыв. И вот я стою на этом самом камне. Камера продолжает снимать. Передо мной открывается необычайно красивая картина. Высокая противоположная стена кратера обрывается вертикально вниз в синее-пресинее озеро, находящееся на сотни метров ниже меня. Вода этого озера, очевидно, насыщена минералами: она морского цвета! Отражающаяся в ней синева неба усиливает ее цвет. Сверху замечаю разбросанные по круто уходящему в глубину дну озера подводные валуны, по мере удаления от берега становящиеся почти невидимыми. Правее, в восточной его части, жерло имеет пролом: с двух сторон не смыкающиеся стены опускаются до уровня воды. По-видимому, в те времена, когда вулкан еще был действующим, потоки извергающейся лавы далеко растекались именно в этом направлении, поджигая растущие ниже деревья. На этом давно застывшем, окрашенном лишайником в рыжий цвет каменистом языке, уходящем на километры вдаль, растительности нет и сегодня. Прижилась здесь лишь карликовая березка, ростом не более двадцати сантиметров. Такое маленькое деревце, но сколько в нем силы, чтобы выживать.