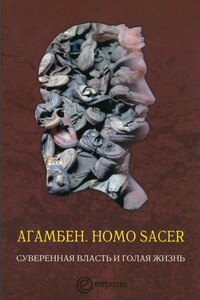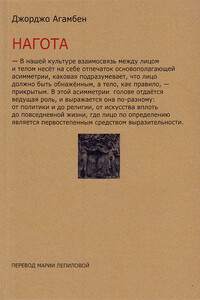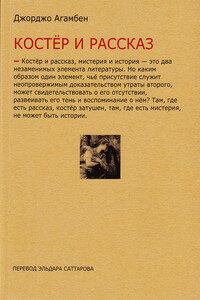Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель | страница 19
Мрак, который нарастает от страницы к странице, пока не достигает бессвязного бормотания, приводит в замешательство, как хрип умирающего, и на самом деле ничем иным он и не является. Он завораживает, как завораживают пропасти, но вместе с тем обманом лишает нас того, что должно было быть сказано, но не было сказано, и поэтому разочаровывает и отталкивает нас. Я думаю, что Целан–поэт должен быть предметом наших размышлений и жалости, но подражать ему не стоит. Если он и хочет передать нам какое–то послание, то оно теряется в «фоновом шуме»: это не сообщение, не речь, или, самое большее, речь темная и отрывочная, которая присуща именно умирающему человеку, и он одинок, как одинок будет каждый из нас в момент нашей смерти[68].
В Освенциме Леви уже приходилось стараться расслышать и истолковать бессмысленное бормотание, не–речь или темную, отрывочную речь. Это случилось после освобождения лагеря, когда русские переводили выживших из Буны в «большой лагерь» Освенцима. Здесь внимание Леви сразу же привлек ребенок, которого заключенные звали Урбинеком.
Урбинек был ничто, сын смерти, сын Освенцима. На вид ему было года три, никто о нем ничего не знал, он не умел говорить, у него не было имени: это странное имя — Урбинек дал ему кто–то из нас, наверное, одна из женщин, истолковавшая таким образом одно из неясных слов, которые малыш то и дело произносил. Нижняя часть его тела была парализована, его атрофированные ноги были тонкими, как прутики; но его глаза, смотревшие с треугольного истощенного лица, были ужасно живыми и полными мольбы, желания освободиться, разбить гробницу немоты.
Его глаза кричали о жажде языка, которого ему не хватало, которому никто не потрудился его научить[69].
В какой–то момент Урбинек начал постоянно повторять одно и то же слово, которое никто в лагере не мог понять, а Леви транскрибировал его с некоторыми сомнениями как «масскло» или «матискло»:
Ночью мы начали прислушиваться: и правда, из угла Урбинека то и дело доносился звук. Это было какое–то слово, на самом деле не всегда одно и то же, но это точно было членораздельное слово; или, возможно, немного различающиеся членораздельные слова, экспериментальные вариации на тему, на один и тот же корень, возможно, на имя