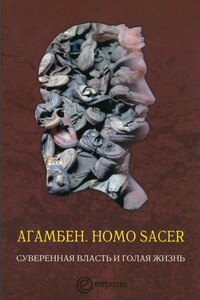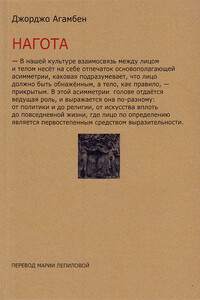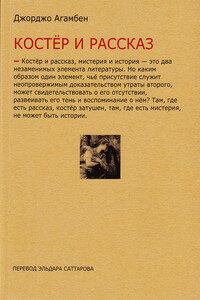Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель | страница 18
…На самом деле извне говорить правду, свидетельствовать невозможно. Но так же невозможно, как мы видели, и свидетельствовать изнутри. Мне кажется, что невозможность свидетельства и напряжение всего фильма проистекают именно из положения не–нахождения ни просто внутри, ни просто вовне, но, парадоксальным образом, одновременно внутри и вовне. Фильм пытается открыть путь и перекинуть мостик, который не существовал во время войны и не существует и по сей день, между «внутри» и «вовне» — чтобы установить контакт и диалог между ними[64].
Именно этот порог неразличения между «внутри» и «вовне» (который, как мы увидим, вовсе не является ни «мостиком», ни «диалогом») исследовательница и опускает из своего анализа, хотя он мог привести ее к пониманию структуры свидетельства. Мы имеем здесь скорее не анализ, а переход от логической невозможности к эстетической возможности посредством метафоры пения:
То, что дает фильму возможность свидетельствовать и составляет его силу вообще, это не слова, но двусмысленное и сбивающее с толку отношение между словами, голосом, ритмом, мелодией, образами, текстом и молчанием. Любое свидетельство говорит нам за пределами своих слов, за пределами своей мелодии, как уникальное исполнение песни[65].
Объяснять парадокс свидетельства посредством deus ex machine[66] пения значит эстетизировать свидетельство — а этого как раз Ланцман всеми силами старался не делать. Ни поэма, ни песня не могут помочь спасти свидетельство от невозможности; наоборот, именно на свидетельстве и основывается возможность поэмы.
Заблуждения честного человека могут быть поучительными. Примо Леви, не любивший трудных для понимания авторов, восхищался поэзией Пауля Целана, хотя на самом деле до конца не понимал ее. В коротком эссе, которое называется «О неясной литературе» (Sullo scrivere oscuro), он противопоставляет Целана тем, кто пишет непонятно из–за презрения к читателю или из–за неумения ясно выражать свои мысли: неясность поэтики Целана наводит Леви на мысль скорее о «пред–самоубийстве, нежелании существовать, бегстве от мира, венцом которого становится желанная смерть»