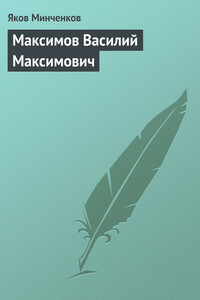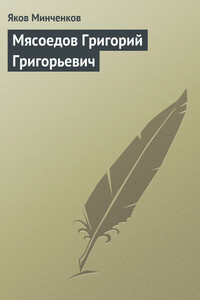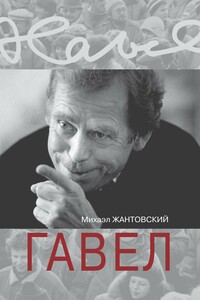Воспоминания о передвижниках | страница 13
Репин горячо приветствовал мысль о создании такой книги. Он писал Минченкову (9 августа 1928 г.): «Как хорошо, что Вы задумали вспомнить о передвижниках, вспомнить правдиво… без лести, без выдумок…» Поощряли предпринятое им и другие — В. К. Бялыницкий-Бируля, В. А. Гиляровский.
Рукопись была закончена в 1934 году и передана в московские издательства, где ее ожидали долгие годы мытарств. «Воспоминания о передвижниках» появились из печати лишь шесть лет спустя, уже после смерти автора — Минченков умер в Каменске-Шахтинском 18 мая 1938 года.
Виной проволочки, надо полагать, было несправедливо пренебрежительное отношение к наследию передвижников, порой наблюдавшееся в годы, когда пережитки вульгарно-социологических концепций сохраняли некоторое влияние в нашей искусствоведческой науке, накладывая свой отпечаток также на дело популяризации искусства, на музейную и издательскую практику.
Свой труд старый передвижник Минченков и задумал, видимо, как некий противовес этим тенденциям. «Вы ставите своей целью возбудить внимание к передвижникам и желание изучения их», — писал ему племянник Н. Н. Дубовского Н. И. Лагутин.
И надо сказать, что именно он, Минченков, имел все основания взять на себя осуществление этой задачи.
Человек, непосредственнейшим образом причастный к художественной жизни предреволюционных десятилетий, он провел много лет в самом тесном, повседневном общении с И. Е. Репиным и В. И. Суриковым, В. Д. Поленовым и И. И. Левитаном, Н. А. Касаткиным и Н. Н. Дубовским, и ему было что о них рассказать. На глазах его происходило множество событий, встреч, бесед, которые его зоркая наблюдательность приметила, память зафиксировала с удивительной точностью и полнотой, а незаурядный дар рассказчика помог передать с подкупающей живостью и достоверностью, языком хотя и не всегда безукоризненно правильным с точки зрения литературных норм, но зато неизменно сочным, красочным, метким, уснащенным доброй толикой юмора.
В литературе об искусстве обычно мало внимания уделяется личности художников, бытовой обстановке их жизни, повседневным радостям и печалям. Книга Минченкова в какой-то мере восполняет этот пробел, воскрешая перед читателем немало запоминающихся эпизодов из истории Товарищества передвижников, рисуя живые образы художников, больших и малых, в их творческом труде и житейских буднях, в мастерской и на этюдах, на выставках и в домашнем кругу. Множество штрихов такого рода рассыпано по страницам «Воспоминаний». Но это не было для автора конечной целью. «Всякие мелочи вплетенные в рассказ, — писал Минченков о своем замысле Н. И. Лагутину (7 июня 1933 г.), — создают увлекательность для чтения, а живой образ ведет читателя к изучению творчества художника и заставит его обратить внимание на произведения художника. Вот моя цель — воскресить передвижников, заставить их жить, говорить, веселиться, ссориться, ошибаться — и делать свое, своей эпохи дело». И в другом письме (к нему же 3 августа 1933 г.): «Полагаю, что раз личности вне общественного воздействия не существует, то и интимная сторона ее есть результат этого воздействия и потому может быть ценной с этой стороны. Мне нужна эпоха и типы этой эпохи…»