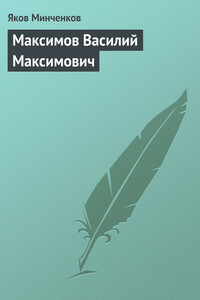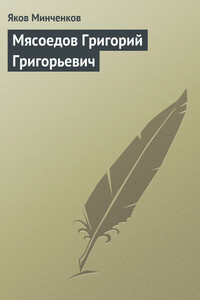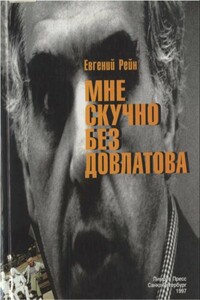Воспоминания о передвижниках | страница 14
Вот почему, представляя своих товарищей по искусству в подобном аспекте и увлекаясь бытовыми деталями и житейскими мелочами, Минченков в то же время не перестает видеть в них людей, «делающих своей эпохи дело». Он изображает передвижников в их нелегкой борьбе за утверждение и развитие демократического, реалистического направления русской живописи, не устает подчеркивать их гражданственные устремления, приверженность передовым общественным идеям времени, принципам жизненной правды в искусстве. Он приводит примеры острых столкновений художников с «власть имущими», с произволом царской цензуры, показывает отношение передвижников к революционным событиям 1905 года. Немало строк посвящено их борьбе за свое художническое и человеческое достоинство, против гнетущих законов капиталистического рынка, против буржуазного понимания искусства как товара, подлежащего купле-продаже. «Большинство из нас, — свидетельствует Минченков, — мечтало о социальном строе, который дал бы нам независимость от буржуазного рынка, заказа от капитала, угодничества золотому тельцу, подавляющему всякое свободное проявление творчества художника».
Не умалчивает он и о сложных кризисных процессах, исподволь нараставших в недрах Товарищества передвижников, об острых противоречиях, все более расшатывавших изнутри первоначально столь монолитное содружество: о брожении в Товариществе и выходе из него ряда талантливых молодых мастеров, за которыми (показала история) как раз и было будущее; об утрате многими представителями позднего передвижничества прежних духовных идеалов, скатывании с былых идейно-художественных высот к мелкотемью, мещанской ограниченности, порой и к откровенному компромиссу со вкусами буржуазного заказчика… Обо всем этом мемуарист заговаривает не раз, снова и снова пытаясь отдать себе отчет в том, что же произошло, найти объяснение этим все еще болезненно переживаемым им явлениям. Вопрос о путях и перепутьях позднего передвижничества, о началах и концах движения, заметим кстати, по сию пору недостаточно углубленно изучен и освещен в наших искусствоведческих исследованиях, — свидетельства Минченкова могут и здесь оказаться весьма полезными.
Воспоминания Минченкова интересны еще и тем, что, говоря о Товариществе, он останавливается не только на прославленных больших мастерах (Репин, Суриков, Поленов, Левитан и др.), по-новому, по-своему их освещая, но и рассказывает (часто впервые в литературе, и притом с такими подробностями, каких больше нигде не найдешь) о фигурах гораздо меньшего масштаба, сыгравших, однако же, свою, пусть скромную, роль в искусстве, — таковы, например, очерки о А. Н. Шильдере, А. М. Корине, И. П. Богданове и ряде других. «Даже самые бесцветные художники, — восхищался К. И. Чуковский, — здесь изображены с незабываемой яркостью». Отметим, что для большинства из них написанное Минченковым — до сих пор единственное, что есть в литературе.