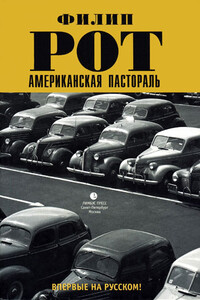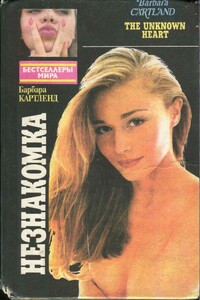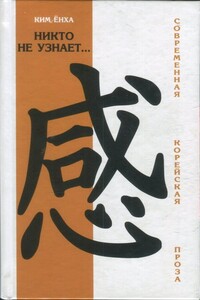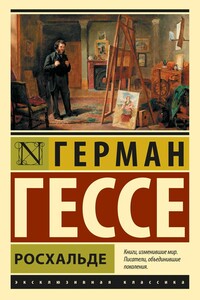Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла | страница 88
и «Велвите»[42] пришли «вино и сыр», хлебу «Тейсти бред» он предпочитал, когда мог себе позволить выйти поужинать, «французский», но лесбиянка? Так далеко его фантазии не простирались. Впрочем, у него очень недолго была девушка-мулатка. Жарко лаская ее под свитером в цокольном этаже Ида-Нойес-холла, он не терял способности анализировать. «Вот она, настоящая жизнь», — думал он, хотя ничего более странного с ним к тому времени не случалось. У него был друг на несколько лет старше, завсегдатай «Стайнвея» — он ходил к психоаналитику, курил марихуану, разбирался в джазе и объявил себя троцкистом. Для юного студента в 1950 году это было круто. Они ходили в джазовый клуб на Сорок шестой улице — два белых студента-еврея благоговейно слушали музыку в окружении темных, недружественных и совсем неблагоговейных лиц. В один волнующий вечер в баре «У Джимми» он слушал, как Нельсон Олгрен[43] рассказывал о закулисной борьбе за премии. В первый его семестр в Чикаго приехал Томас Манн; он выступал в часовне Рокфеллера. Великое событие — двухсотлетие Гете. Манн говорил с сильным немецким акцентом, но такого сочного английского он прежде не слыхал; он говорил прозой, изящно, мощно, ясно — с испепеляющей учтивостью выдавал острые характеристики гениям: Бисмарку, Эразму, Вольтеру так, словно они — его коллеги и вчера вечером ужинали у него дома. Гете был «чудом», сказал он, но настоящим чудом было сидеть в двух рядах от подиума и учиться у знаменитого европейца, как говорить на твоем родном языке. Манн в тот день повторил слово «величие» раз пятьдесят: величие, мощь, возвышенное. В восторге от эрудиции писателя, он позвонил вечером домой, но в Нью-Джерси никто не знал, кто такой Томас Манн, там даже о Нельсоне Олгрене не слыхивали. «Ну, извините, — сказал он вслух, повесив трубку, — что это был не Сэм Левинсон»[44]. Он выучил немецкий. Он читал Галилея, святого Августина, Фрейда. Он возмущался тем, что неграм, работавшим в университетской больнице, недоплачивают. Когда началась корейская война, он и его ближайшие друзья объявили себя врагами Ли Сын Мана. Он читал Кроче, заказывал луковый суп, втыкал свечку в бутылку из-под кьянти и устраивал вечеринку. Он открыл для себя Чарли Чаплина и У. К. Филдса, документальные фильмы и самые непристойные шоу в Калумет-Сити. Он ходил на Ближний Норт-сайд свысока разглядывать рекламу и туристов. Он купался на Пойнте с логическим позитивистом, писал яростные рецензии на романы битников для университетской газеты «Марун», купил первые пластинки с классической музыкой — Будапештский струнный квартет — у гомосексуального продавца, которого звал по имени. В разговоре стал говорить о себе «человек». Да, все было прекрасно, вот она — та большая и захватывающая жизнь, которую он и воображал, но потом он допустил первую ошибку. На последнем курсе он опубликовал рассказ — дебют в «Атлантике» — десять страниц о семье ньюаркских евреев и об их стычке с семьей сирийских евреев в пансионе на джерсийском побережье: конфликт был частично списан с истории о скандале, устроенном его вспыльчивым дядюшкой, — о ней ему (с неодобрением) рассказывал отец, когда он приезжал домой на каникулы. Дебют в «Атлантике». Казалось, жизнь становится еще больше. И писательство сделает ее еще насыщеннее. Сочинительство, как свидетельствовал Манн, в том числе и своим примером, — единственное достойное занятие, несравненный опыт, возвышенная борьба, и писать может только фанатик — иначе не бывает. Без фанатизма ничего великого не сочинишь. Он безусловно верил в колоссальные возможности литературы отражать и очищать жизнь. Он будет писать больше, публиковать больше, и жизнь станет безграничной.
Книги, похожие на Урок анатомии: роман; Пражская оргия: новелла