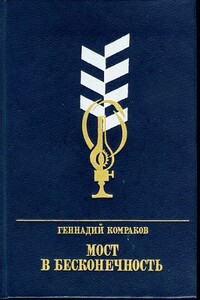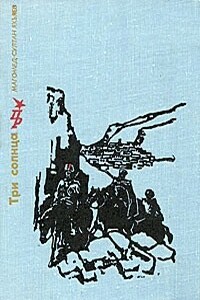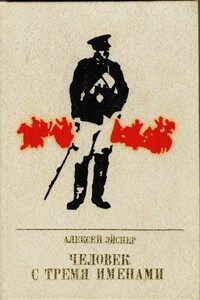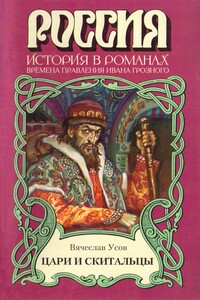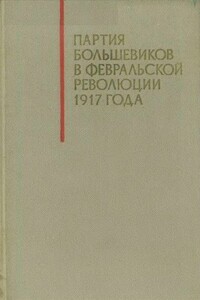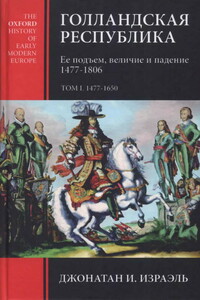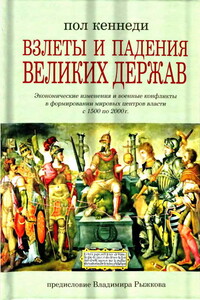Огненное предзимье | страница 22
Осип велел Максиму:
— Берись за передок! Чево глядишь? Глядеть нечева, поедем в лес.
— Не поеду! — сипло и неожиданно возроптал Максим.
Обида и ненависть росли в нем, подобно зареву на черном небе.
— Велю!
Так батя ни разу не кричал. Максим пыльными руками ухватился за борт телеги, поставил ее на колеса. Какое-то забытье ненависти охватило его и крепко, душно держало все время, пока они ехали в лес, искали деляну, рубили сухостой и дряхлую ольху, складывали костры. Так дожил он до сумерек и вдруг замерз у костра, ощутил мокрую рубаху на плечах и — заплакал.
— Али занемог? — испугался отец.
Максим ничего не мог объяснить ни ему, ни себе. Он только выговаривал сквозь слезы:
— Как он… нас! Как он нас!
Поодаль возились соседи по деревне, плакать при них было стыдно. Максим ушел в лес.
Когда он воротился, надышавшись тьмой и сыростью болота, у костра стоял Корнил Шанский. Он выглядел не лучше заработавшихся мужиков, встретивших его молча, без поклонов.
Шанский устало выговаривал Осипу:
— Ты в первый раз золу жгешь? Ведаешь, что с осины дурна зола. Рубить осину, конечно, легше… И жгешь нечисто. Ей, я поворочу твою золу в худую!
Чтобы приемщики не отказались от золы, не «поворотили ее в худую», крестьяне угощали их. Ну-ка, недельная работа — псу под хвост! Перед приходом Шанского Осип собрался ужинать, мать разложила на чистом рядне три куска хлеба (себе — поменьше), свежий лук и пареную репу. Крупная соль в тряпице драгоценно посверкивала в отблесках костра. Максим, увидев, сразу сильно, даже злобно захотел есть. Корнил продолжал:
— Вон ты какой кол осиновый загнал в кострище!
— То ольха! — восплакался Осип.
— Малый! — велел Корнил. — Выволоки сию ольху, будем глядеть.
Максим, опаляя брови жаром, взялся за жердину. Она была легка, толщиной в руку. Сучья держали ее в кострище, Максим напрягся. Шанский, мимоходом схватив с рядна кусок хлеба — побольше — и щедро обваляв его солью, подошел ближе. Жуя, он челюстями словно помогал Максиму тянуть жердину. Когда Максим вырвал ее, искры брызнули на однорядку Шанского. Он выругался так, как никогда никто не ругался при матери, хотя в обиходе мужиков присловье это вылетало легко и весело.
Остатний огонек на кончике жердины озарял истощенное лицо Корнила. Оно немного раздалось, словно бы пожирело от жевания.
И не Максим, а руки его, так хорошо трудившиеся в это лето, сунули горящий конец жердины в бороду Шанского.
Максим увидел, как маслянисто блеснул нож в руке приказчика, услышал крик отца: «Беги!» Мгла леса приняла его, укрыла от Корнила, плотно завернув в сырой черный плат.