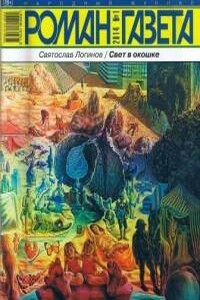Повествования разных времен | страница 66
«Какая прелесть ваша жена, — говорили ему несчастные старухи. — Как она ухаживает за вашей мамой, родная дочь так не сумела бы». И Терновой в который уже раз всей душой преклонялся перед этой невесть за какие заслуги внезапно доставшейся на его долю женщиной, у которой прекрасным оказалось не только лицо…
«И мама у вас такая тихая, терпеливая, — продолжали старухи. — Так нам жалко ее…» Тут они совсем по-детски плакали, а он не знал, куда девать себя.
И в то последнее посещение, когда мать молча гладила его руку, будто просила еще остаться, еще побыть хоть немного, — он тогда, как на грех, особенно спешил: надо было провести партсобрание (ждали представителя райкома), подписывался его материал (с трудом невероятным добытый и с еще большим трудом пробитый на полосу — если бы не поддержка Главного, ничего бы не вышло), Терновому позарез нужно было поскорее вернуться в редакцию, а бессильная рука матери все не отпускала. Но он так спешил… Встал со стула, бережно положив ее забинтованную кисть на одеяло, наклонился, коснулся губами седых волос на виске. И ушел. Даже не оглянулся в дверях.
Это было их последнее свидание, на другой день ее оперировали. Оказалось — поздно. Да и возраст…
Терновому все чудится, что мать — где-то там, в холодном нежилом морге, недвижимая, молча, не имея сил подать голос, зовет его, без надежды, все зовет и зовет… Он слышит ее голос, ослабевший и ласковый ее голос недавнего времени, когда она еще могла подойти к телефону в больничном коридоре и позвонить ему на работу. Теперь она уже не может позвонить, никогда не сможет, а он слышит: «Здравствуй, Витенька… Здравствуй, сынок… Я не помешала тебе?..»
Изо всех сил Терновой сдерживает то, что помимо воли поднимается к горлу и глазам. Он один сейчас в своем кабинете, его никто не видит. Сдерживается просто по привычке. И никак это не удается…
В сто девятой комнате располагались двое. Каждый сидел за своим двухтумбовым столом, заваленным рукописями, гранками и полосами. У каждого на столе стоял телефонный аппарат. У Кузьмицкого — черный и блестящий, как «Волга» Главного. У Петра Пичугина же телефон был безлико-серый, и когда он держал захватанную трубку у своей до лоска выбритой тугой щеки, унылый цвет трубки контрастировал с жизнеутверждающим румянцем его физиономии.
Вороной телефон Кузьмицкого подал голос — тот снял трубку, болезненно перекосил чересчур правильное и чересчур бледное лицо (не дают, дьяволы, покоя ни на минуту!), отозвался неприветливым тоном чрезвычайно занятого бюрократа: